Пути и перепутья - [105]
— А дальше? — осмелел я, Надя, прикрыв глаза, казалось, обо мне забыла. — Как же вы с ним…
— Тебе интересно? — Она сразу обернулась ко мне. — Что ж? Расскажу. Хотя, сознаюсь, что за эти длинные годы и с другими не раз откровенничала, не выдерживала одиночества. Ведь оно так давно было, наше с ним первое и «чудное мгновение», что порой я даже и сомневаюсь: а было ли оно вообще?..
Надя сорвала с акации пыльный листок, растерла его в ладонях и, аккуратно отряхнув руки и платье, слабо улыбнулась:
— Ладно… Слушай…
На первый взгляд их история мало отличалась от тьмы других историй военной поры, сводимых к крылатой формуле поэта: «Жди меня, и я вернусь…» Я много встречал на фронте тех задумчивых солдат, по которым где-то за тысячи верст тосковали их беззаветные подруги, тогдашние Ярославны, но таящие свой плач в себе, чтобы не поранить других, уже лишенных войной и этого нелегкого права — ждать.
С тайным плачем жила и Надя. Не из-за горя — она ведь не потеряла, наоборот — в войну обрела Олега. Но вместе с ним, еще непонятным, далеким, обрела она и нежданную боль, неотступные сомнения.
Она не была, по сути говоря, ни обласкана, ни согрета Олегом, к чему так привыкла в своей семье, в чем представлялся ей смысл любви по книгам, кино или в грезах о будущем своем Ромео.
Олег поразил ее, когда после смерти отца пришел к Елагиным — и не несчастным пришел, а как судья, вот-вот драться начнет! В Наде тогда что-то зябко дрогнуло. Потом в пионерском лагере — от его бесконечных «встрясок». И наконец, в школе — на шопеновском вечере.
Она удивилась, когда Володька пригласил ее сопровождать доклад Олега хорошо наигранным еще в музыкальной школе этюдом Шопена.
— Олег и Шопен?.. Это смешно! Ему бы под духовой оркестр с ружьем маршировать!
— А ты попробуй! Олег — это чудо!
А потом, захваченная его необычным докладом, она вместе с подружками из музыкальной школы, как волшебного мига, ожидала в темной комнатушке за сценой своей очереди играть. И вот вспыхнула лампочка над пианино, прозвучали из тьмы слова влюбленной в Шопена Жорж Санд, теперь обращенные им, Олегом, к ней, к Топорковой:
— Играйте, играйте, бархатные пальцы!..
Все, кто играл до Нади, потихоньку пробирались в зал. Она уйти не смогла — села на стул в той же темной комнатке и затаилась, еще слыша в себе эхо недавних аккордов. Потом туда влетел Олег, за что-то упрекнул хлопотливого Володьку. В зале зажгли свет. И Надя увидела, как пылает от пережитого лицо Олега.
— Вы, наверно, поэтом станете? — обнаружила она себя и от смущения и в благодарность за такой сказочный вечер.
— Надя?! — Он схватил ее за руки, обрадовался. — Ты волшебно играла! Спасибо!.. Нет! Какой я поэт? Это так — не свое, от других отраженный свет… — И вдруг сжал ее руки до боли. — Почему ты тут спряталась? Почему ты вечно в тени?.. Есть такая красота — я весь вечер об этом думал. Выше музыки, выше поэзии! Вот ее бы познать! Помнишь, Маркс сказал: счастье — это борьба? Это правда, я чувствую… Стой! Почему ты убегаешь? Надя!
Она унесла тогда только боль в пальцах от его рукопожатий и испуг — неосознанный испуг от того, что в то время, как ее до краев заполнил этот волшебный вечер, главный виновник его витал мыслью в чем-то другом, жил как будто этажом выше.
Тот вечер вместе с Олегом канул в войну. И очевидно, забылся бы, не найди Надю уже в Сибири то первое, шальное письмо Олега, которое будто раздвоило ее, заставило взглянуть на себя его глазами, что было непривычно для Нади.
— Ой, не верь ему! — воскликнула вгорячах Зойка. — Он девчонок и за людей не считает, по себе знаю. — А потом спохватилась. — Человек он, правда, очень серьезный, зря не напишет.
Минуло еще с неделю на ее собственном маленьком фронте — шесть часов в нетопленой школе, потом воскресник на заводе или в городе, вечером — госпиталь: читка газет или книг для раненых, письма под их диктовку; дома до полуночи — подготовка к урокам. И все эти похожие друг на друга дни Надя непрестанно думала об Олеге. Он представлялся ей таким же бойцом, что лежали в ее подшефной палате, и немного — пионерским вожатым. Потому, когда пришла Зойка вместе по уговору сочинять ответное письмо, Надя относилась к Олегу уже спокойно и уважительно — как ко всем.
Ох, как дорого обошлись ей этот самообман, попытка спрятаться за обыденность, всеобщность, свести письмо Олега к рамкам простого знакомства! Он будто снова больно стиснул ее руки, но уже так, чтоб не вырвалась.
Свое очередное письмо Олег начал с того, что оно сугубо личное, никого, кроме нее — даже Зойки! — не касается, что искал он в Наде не просто учтивую корреспондентку, а друга, такого незаменимого на всю жизнь друга, к которому все в тебе тянется, как из ночной стужи к солнышку дня — радость и боль, надежды и тревоги, все без утайки, до дна. И Олег так распахнулся в письме, что стало за него не по себе: ее недавний вожатый, такой гордый, сильный, показался беспомощным и потерянным.
Свое состояние он передал цитатой из Герцена — зачитав до ветхости письмо, Надя ее наизусть запомнила. «С начала юности искал я жизни деятельной, жизни полной, шум житейский манил меня, но едва я начал жить, как какая-то адская сила завертела меня, бросила далеко от людей, очертила круг деятельности карманным циркулем, велела сложить руки…» Насчет рук Олег тут же оговорился — им достается так, что к вечеру в кулак не сжимаются: от зари до зари на аэродроме — «кручу гайки, заношу самолетам хвосты, снаряжаю в бой летчиков, а они часто не возвращаются». И вдруг: «Живу вполсилы, даже в четверть силы — нет! — и десятой части души не расходую, хоть волосы рви на себе. Одни кроваво воюют, гибнут в огне. А я? После контузии к летной службе признан негодным. Так послали бы, как просился, пехотинцем — только б на самую передовую, чтоб сполна с фашистами рассчитаться… Так нет! Сказали, что раз знаком с авиационной техникой, ею обязан и заниматься. Спору нет — дело важнецкое: без нашего брата, технарей, ни самолет не взлетит, ни бомба не грохнет. Но все же это не в атаку ходить, лично истреблять гадов. Думал, при упорстве в жизни все одолимо и возможно раскрыться сполна — не для себя, для общей пользы. Ан нет! Подчиняйся и воле случая! Повезло — воюй, дыши полной грудью… А я будто связан по рукам и ногам, в своей судьбе ничего изменить не могу».

КомпиляцияЛунный пес (повесть)Тундра, торосы, льды… В таком месте живут псы Четырёхглазый, Лунник, и многие другие… В один день, Лунник объявил о том, что уходит из стаи. Учитывая, каким даром он владел, будущее его было неопределённым, но наверняка удивительным.Прощание с богами (рассказ)Капитан Умкы (рассказ)Сквозь облака (рассказ)

.В третий том входят повести: «Смерть Егора Сузуна» и «Лида Вараксина» и роман «И это все о нем». «Смерть Егора Сузуна» рассказывает о старом коммунисте, всю свою жизнь отдавшем служению людям и любимому делу. «Лида Вараксина» — о человеческом призвании, о человеке на своем месте. В романе «И это все о нем» повествуется о современном рабочем классе, о жизни и работе молодых лесозаготовителей, о комсомольском вожаке молодежи.

Рассказ о последних днях двух арестантов, приговорённых при царе к смертной казни — грабителя-убийцы и революционера-подпольщика.Журнал «Сибирские огни», №1, 1927 г.
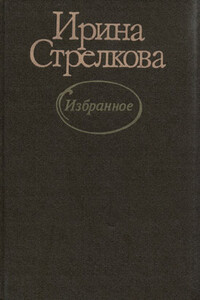
«— Священника привези, прошу! — громче и сердито сказал отец и закрыл глаза. — Поезжай, прошу. Моя последняя воля».

«В обед, с половины второго, у поселкового магазина собирается народ: старухи с кошелками, ребятишки с зажатыми в кулак деньгами, двое-трое помятых мужчин с неясными намерениями…».
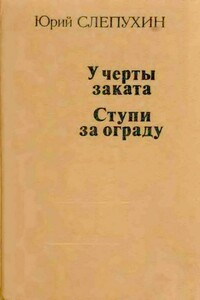
В однотомник ленинградского прозаика Юрия Слепухина вошли два романа. В первом из них писатель раскрывает трагическую судьбу прогрессивного художника, живущего в Аргентине. Вынужденный пойти на сделку с собственной совестью и заняться выполнением заказов на потребу боссов от искусства, он понимает, что ступил на гибельный путь, но понимает это слишком поздно.Во втором романе раскрывается широкая панорама жизни молодой американской интеллигенции середины пятидесятых годов.