Пути и лица. О русской литературе XX века - [24]
Эта тяжкая метаморфоза художнической позиции, за которой стоял, конечно, духовный опыт, обретенный в последние не означала, однако, ухода из поэзии Ходасевича чувства «двойного бытия». При всей многозначительности появления такого – пусть и неоконченного стихотворения, как «Великая вокруг меня пустыня…», не случаен, конечно, выбор поэта, завершившего последнюю свою книгу именно «Звездами», где живет и утверждается, несмотря на всю грубую мощь обездушенного мира, осознание бытия в двух его измерениях. В этом смысле «Европейская ночь» воспринимается под знаком «Звезд» — даже там, где прямо говорится о непоправимости отторжения души от мира, о непреодолимости пропасти между ними (как это было в «Слепом», в «Берлинском», в «Окнах во двор», во многих других стихотворениях). Ведь и в каждом из этих стихотворений, и в их взаимодействии в книге (а книга стихов — напомню снова — была для поэта не просто очередным сборником, а частью биографии, этапом жизни) торжествующая бездуховность мира и жизнь души, отстраненной от мира, осознаны как трагедия , а это уже говорит о духовной высоте самой позиции художника. Осознание трагедии бездуховности современного мира, тоска по свету вечности, сокрытому от человека громадами «омерзительно вещественного» земного дома, — становятся высоким духовным императивом в последней книге поэта.
И опять возникает здесь проблема традиции. Постсимволистский характер поэзии Ходасевича очевиден и в «Европейской ночи». Подчеркнутая предметность слова, раздельность переживания, отчетливо выписанные подробности внешнего и внутреннего мира, живописная природа поэтического образа (более того, — противостоящая какому-либо музыкальному началу) — все это вроде бы сближает Ходасевича с акмеистической школой. Но если у акмеистов выход во внешнюю жизнь с четкими очертаниями предметов, с определенностью и осознанностью обращения со словом, с конкретностью и внутренней завершенностью поэтического образа сопровождался сужением душевного мира, если художественное равновесие в стихах последователей этой школы достигалось «добровольным ограничением задач искусства: не победой формы над хаосом, а сознательным изгнанием хаоса», когда «все воплощено, оттого что удалено невоплотимое, все выражено до конца, потому что отказались от невыразимого» [85], — то в поэзии Ходасевича происходит нечто иное. Не «изгнание хаоса», а неотступное внимание к нему, яростное противоборство с ним оружием классического стиха; не «отказ от невыразимого», а мечта и тоска о нем вот что живет в стихах Ходасевича, в том числе и в последней его книге. Ощущение «бездны» за «покровом» материального мира, осознание данного постичь человеку или трагически сокрытого от него присутствия иного бытия в окружающей реальности — эту символистскую тему Ходасевич последовательно воплощал иными поэтическими средствами. И хотя в поэзии его не произошло — и не могло произойти – лирического взлета к той, взятой некогда символизмом, высоте в выражении невыразимого, — стихи его говорили о сложности, многозначности современного мира и о трагическом пути души в нем. Быть может, пользуясь категориями истории культуры, это можно было бы назвать тоской по символизму. Во всяком случае, перефразируя известное высказывание В. Вейдле, можно сказать, что от акмеизма с его сужением духовных горизонтов Ходасевич защитился символизмом — и, наверно, опять Пушкиным. Ему не пришлось преодолевать ни символизма, ни акмеизма, так как ни к одному из этих берегов (хотя символистский берег был для него неизмеримо выше) он никогда не примыкал безраздельно — но и не был чужд им.
Непримиримо сражаясь с хаосом воссоздаваемого мира классическим стихом, Ходасевич (как уже говорилось) неизбежно подвергал деформациям сам стиховой строй, воспринятый им из «золотого века» русской поэзии. Поэтому, читая в его «Петербурге» известные строки: «И, каждый стих гоня сквозь прозу, Вывихивая каждую строку, / Привил-таки классическую розу / К советскому дичку» (о которых В.Вейдле замечал, что «в четыре строчках дана здесь очень содержательная поэтика» [86]), оговоримся, что не совсем классической была эта роза. И дело здесь и только в участии прозы или в «вывихнутости» строки. Порою поисках средств поэтического выражения, адекватных искаженной, изуродованной реальности, Ходасевич прибегает к «низкой», жесткой лексике (примеры эти уже приводились; достаточно прочитать стихотворение «Нет, не найду сегодня пищи я…»); ряде стихотворений (таких как «С берлинской улицы…», «Дачное», отчасти «День», «Берлинское» и др.) этот ревностный хранитель классической традиции обращается к поэтическим возможностям сюрреализма. Да, в основном своем течении поэзии Ходасевича в 1920-1930-е годы развивалась в верности традициям классического стиха и в эстетических пределах постсимволизма — в частности, того поэтического типа, который был назван В. Вейдле (понимавшим это достаточно широко и не сводившим к акмеизму) поэтикой» [87]. Но, сознавая это, не забудем, что часто эстетическая позиция Ходасевича была радикальнее принципов «петербургской поэтики» с ее устремленностью к строгости, целомудрию поэтического слова, а порою и не вмешалась в ее пределы, выламывалась из них.
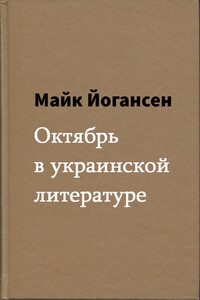
Статья украинского писателя Майка Йогансена, написанная им на русском языке, и опубликованная 7 ноября 1925 года в харьковской газете «Коммунист».
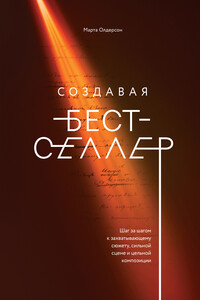
Что отличает обычную историю от бестселлера? Автор этой книги и курсов для писателей Марта Олдерсон нашла инструменты для настройки художественных произведений. Именно им посвящена эта книга. Используя их, вы сможете создать запоминающуюся историю.

"Эта детективная история началась в 1975 году. Главные действующие лица: Дмитрий Сергеевич Лихачёв — академик, славист, бывший узник Соловецких лагерей и Олжас Омарович Сулейменов — казахский поэт, пишущий на русском языке. Во второй половине 80-х годов демократическая пресса называла Дмитрия Сергеевича совестью нации, знаменем культурного обновления страны. Главный стержень, вокруг которого развёртывается интрига, — памятник древнерусской литературы XII века "Слово о полку Игореве" (СПИ — принятое в науке сокращение).".
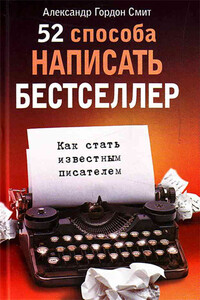
Книга известного издателя Великобритании Александра Гордона Смита включает эффективные идеи и полезные советы, которые помогут вам стать востребованным писателем. Увлекательное и вдохновляющее изложение автора дает возможность понять, в каком направлении двигаться дальше, если вы только вышли на тернистый путь написания книги или остановились на перепутье. Книга предоставит вам шанс создать произведение, основываясь на собственных эмоциях и мыслях, избегая штампов и банальностей. Рекомендации автора, основанные на его личном опыте писателя, редактора и издателя, помогут вам создать свое художественное произведение и написать настоящий бестселлер.
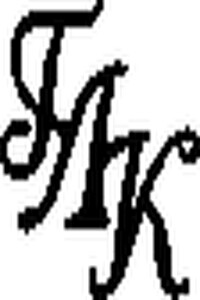
Книга Михаэля фон Альбрехта появилась из академических лекций и курсов для преподавателей. Тексты, которым она посвящена, относятся к четырем столетиям — от превращения Рима в мировую державу в борьбе с Карфагеном до позднего расцвета под властью Антонинов. Пространственные рамки не менее широки — не столько даже столица, сколько Италия, Галлия, Испания, Африка. Многообразны и жанры: от дидактики через ораторскую прозу и историографию, через записки, философский диалог — к художественному письму и роману.

«Сказание» афонского инока Парфения о своих странствиях по Востоку и России оставило глубокий след в русской художественной культуре благодаря не только резко выделявшемуся на общем фоне лексико-семантическому своеобразию повествования, но и облагораживающему воздействию на души читателей, в особенности интеллигенции. Аполлон Григорьев утверждал, что «вся серьезно читающая Русь, от мала до велика, прочла ее, эту гениальную, талантливую и вместе простую книгу, — не мало может быть нравственных переворотов, но, уж, во всяком случае, не мало нравственных потрясений совершила она, эта простая, беспритязательная, вовсе ни на что не бившая исповедь глубокой внутренней жизни».В настоящем исследовании впервые сделана попытка выявить и проанализировать масштаб воздействия, которое оказало «Сказание» на русскую литературу и русскую духовную культуру второй половины XIX в.