Пути и лица. О русской литературе XX века - [20]
Отсюда и фигура поэта — Орфея, проникающего взором в суть вещей, открывающего запредельные миры в обыденной реальности. Не случайно именно этот образ оказывается в основе стихотворения «Баллада», завершающего книгу Ходасевича «Тяжелая лира». Характерное совпадение — подытоживая пройденный в «Тяжелой лире» путь осмысления и поэтического воссоздания «двойного бытия» (ведь книга стихов была для поэта не чем иным, как этапом жизни [73]), стихотворение это протягивает преемственные линии к другому произведению Ходасевича, завершающему следующую его книгу («Европейская ночь»), следующий этап жизни — к «Звездам». Начинается оно, как и «Звезды», картиной, подчеркивающей убогость и тесноту земного мира, в котором живет поэт:
Приглядимся, как самой сутью построения образа эти подробности быта, оказывающиеся жалкой имитацией большого Божьего мира (неба, солнца), совпадают с образами сомнительных «звезд» из казино в стихотворении 1925 года. Вот когда обратился Ходасевич к возможностям пародии, которые позднее так развернуто использовал в «Звездах». Картина эта дополняется поэтической зарисовкой, сделанной как бы вскользь, на «полях» изображаемого и подчеркивающей прозаичность и тесноту материального мира, в котором живет поэт: «Часы с металлическим шумом / В жилетном кармане идут». Однако, в отличие от «Звезд», в «Балладе» пародийное начало (вместе с сопутствующими ему поэтическими деталями) не получает дальнейшего развития, не становится главной движущей силой в создании стихотворения. Напротив, в дальнейшем своем движении поэтическая мысль открыто отталкивается от содержательной (а, стало быть, и художественной) сути первых четырех строф, говорящих об убогости реальной жизни, — и развертывает противопоставленную этому «низкому» началу картину, утверждающую сверхъестественную силу искусства, способного раздвинуть пределы земного мира и открыть — сквозь него — безмерные просторы духовного бытия. Поэт — герой стихотворения — начинает «стихами / С собой говорить в забытьи»:
Развернутое в этих — и в последующих — строфах поэтическое «действо» рождено на почве национальной литературной традиции и имеет дальние и ближние истоки. Очевидны здесь прямые параллели с пушкинским «Пророком» — в этом особенно убеждает дальнейшее движение стихотворения, где поэт проникает в суть вещей «глазами, быть может, змеи», где «кто-то тяжелую лиру» ему «в руки сквозь ветер дает».
Ясно, однако, что пушкинские образы пришли к Ходасевичу, преображенные опытом русского символизма. Движение поэтических образов, противостоящих земному, «низкому», предметному миру в первых четырех строфах «Баллады», открыто и последовательно демонстрирует теургическую силу искусства (одна из излюбленных идей младших символистов), которое обладает магической властью проникать сквозь реальность существования в сокровенную суть бытия, для которого окружающий вещественный мир, по словам Ф.Сологуба, — «только окно в бесконечность» [74].
Здесь — и вера в беспредельную мощь, бездонность Слова, («слово сильнее всего»); и волшебство музыкальной стихии, которая «правдивее смысла», которая, вплетаясь в пенье поэта, «узким … лезвием» пронзает его существо, неузнаваемо преображая его — или, по крайней мере, своим звучанием сопровождает роковой удар «лезвия» (вот подлинно символистская интерпретация пушкинского образа меча, рассекшего грудь пророка). Обратим, кстати, внимание, как особая роль музыкальной стихии подчеркнута всей художественной структурой строфы: и «сбоем» ритма первой и третьей строк, звучание которых на один такт дольше, чем в других строфах; и подчеркивающим этот перебив ритмики троекратным повторением слов, отзывающихся друг в друге полной многозначительного смысла аллитерацией («музыка» — «узкое»); и, наконец, сквозной рифмовкой всех четырех строк, чего нет в других строфах. Именно после этой строфы, выбивающейся из общего строя стихотворения, начинается преображение поэта в пророка, вырастающего из тесных пределов «мертвого … бытия» и объемлющего душою всю бескрайность бытия духовного: от «подземного пламени» до «текучих звезд». Заметим — уже здесь возникает у Ходасевича образ звезд, но он чужд тому пародийному принижению, которому подвергает его поэт в первой, «земной» части «Звезд». Напротив, здесь он поле» традиционно высокого смысла (близкого к заключительным строкам «Звезд»), символической глубины, воплощая беспредельность духовного бытия. То же открывается и в других стихотворениях «Тяжелой лиры» («Перешагни, перескочи…», «Смотрю в окно — и презираю…», «Горит звезда, дрожит эфир…»; «Старым снам затерян сонник…» и др.). В «Балладе» же символический смысл образа звезд прорисован еще отчетливее – здесь он подчеркнуто противопоставлен картине каждодневного земного существования (в первой строфе стихотворения): если в начале «Баллады» поэта освещает с «высот» «штукатурного неба… солнце в шестнадцать свечей», то ближе к концу стихотворения преображенный поэт-пророк вырастает «в текучие звезды челом». Это противостояние образов естественно приводит – в последней строфе — к прямому отвержению убогой бытовой стороны жизни и к возникновению на фоне безмерных просторов бытия — фигуры Орфея, певца и пророка:

Вторая книга о сказках продолжает тему, поднятую в «Страшных немецких сказках»: кем были в действительности сказочные чудовища? Сказки Дании, Швеции, Норвегии и Исландии прошли литературную обработку и утратили черты древнего ужаса. Тем не менее в них живут и действуют весьма колоритные персонажи. Является ли сказочный тролль родственником горного и лесного великанов или следует искать его родовое гнездо в могильных курганах и морских глубинах? Кто в старину устраивал ночные пляски в подземных чертогах? Зачем Снежной королеве понадобилось два зеркала? Кем заселены скандинавские болота и облик какого существа проступает сквозь стелющийся над водой туман? Поиски ответов на эти вопросы сопровождаются экскурсами в патетический мир древнескандинавской прозы и поэзии и в курьезный – простонародных легенд и анекдотов.

В книге члена Пушкинской комиссии при Одесском Доме ученых популярно изложена новая, шокирующая гипотеза о художественном смысле «Моцарта и Сальери» А. С. Пушкина и ее предвестия, обнаруженные автором в работах других пушкинистов. Попутно дана оригинальная трактовка сверхсюжера цикла маленьких трагедий.
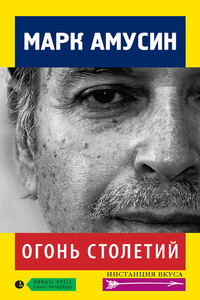
Новый сборник статей критика и литературоведа Марка Амусина «Огонь столетий» охватывает широкий спектр имен и явлений современной – и не только – литературы.Книга состоит из трех частей. Первая представляет собой серию портретов видных российских прозаиков советского и постсоветского периодов (от Юрия Трифонова до Дмитрия Быкова), с прибавлением юбилейного очерка об Александре Герцене и обзора литературных отображений «революции 90-х». Во второй части анализируется диалектика сохранения классических традиций и их преодоления в работе ленинградско-петербургских прозаиков второй половины прошлого – начала нынешнего веков.

Что мешает художнику написать картину, писателю создать роман, режиссеру — снять фильм, ученому — закончить монографию? Что мешает нам перестать искать для себя оправдания и наконец-то начать заниматься спортом и правильно питаться, выучить иностранный язык, получить водительские права? Внутреннее Сопротивление. Его голос маскируется под голос разума. Оно обманывает нас, пускается на любые уловки, лишь бы уговорить нас не браться за дело и отложить его на какое-то время (пока не будешь лучше себя чувствовать, пока не разберешься с «накопившимися делами» и прочее в таком духе)

В настоящее издание вошли литературоведческие труды известного литовского поэта, филолога, переводчика, эссеиста Томаса Венцлова: сборники «Статьи о русской литературе», «Статьи о Бродском», «Статьи разных лет». Читатель найдет в книге исследования автора, посвященные творчеству Л. Н. Толстого, А. П. Чехова, поэтов XX века: Каролины Павловой, Марины Цветаевой, Бориса Пастернака, Владислава Ходасевича, Владимира Корвина-Пиотровского и др. Заключительную часть книги составляет сборник «Неустойчивое равновесие: Восемь русских поэтических текстов» (развивающий идеи и методы Ю. М. Лотмана), докторская диссертация автора, защищенная им в Йельском университете (США) в 1985 году.

Книга «Реализм Гоголя» создавалась Г. А. Гуковским в 1946–1949 годах. Работа над нею не была завершена покойным автором. В частности, из задуманной большой главы или даже отдельного тома о «Мертвых душах» написан лишь вводный раздел.Настоящая книга должна была, по замыслу Г. А. Гуковского, явиться частью его большого, рассчитанного на несколько томов, труда, посвященного развитию реалистического стиля в русской литературе XIX–XX веков. Она продолжает написанные им ранее работы о Пушкине («Пушкин и русские романтики», Саратов, 1946, и «Пушкин и проблемы реалистического стиля», М., Гослитиздат, 1957)