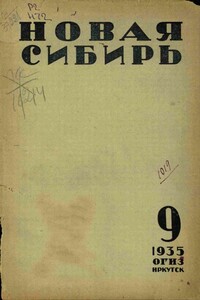Путь, не отмеченный на карте - [8]
Треск покрыл тихий покой тайги. Посыпался снег со сшибленных пулями ветвей. Где-то с форканьем поднялись белыми пушистыми комками куропатки, где-то прыжками, без оглядки, в сторону заскакал ушкан.
Ответных выстрелов не было.
Хорунжий подполз к неподвижно лежавшему прапорщику, приподнял его голову: липкая кровь залила все лицо, уже успевшее застыть. Прапорщик был мертв.
Степанов приподнялся и прислушался. В тайге снова было тихо и покойно.
Степанов, прячась за стволами деревьев, отправился туда, откуда раздался выстрел. Он шел, прислушиваясь. Но тишина снова охватила оцепенелую тайгу — он слышал лишь поскрипывание снега под своими ногами. Он уходил почти по пояс в снег, пробираясь возле самых стволов деревьев. Он видел тонкие узоры птичьих следов на пушистом снегу; видел следы зайцев, совсем свежие и беспорядочные. В одном месте он приостановился и разглядел свежий волчий след, шедший ровной цепочкой и сразу сделавший крутую петлю в сторону. И недалеко от этого следа он, наконец, увидел широкую двойную лыжню, также заворачивающуюся крутой петлей и уходящую дальше и вперед. Вот здесь, понял Степанов, остановились двое на лыжах, вот отсюда они стреляли. Оглянувшись на оставленных возле трупа спутников, Степанов увидал широкий просвет в тайге, через который можно было метко целиться в них... Вот здесь эти неизвестные, но враждебные люди повернули и ушли дальше от того, что они сделали.
Степанов покрутил головой и вернулся к своим спутникам.
13. Лабаз.
Труп коченел. Кровь застыла и перестала течь.
Полковник растерянно глядел на неподвижно прижавшееся (словно ища зашиты у мягко устланной снегом земли) тело.
— Нужно похоронить! — хрипло сказал он.
— Да, да! — оживляясь и черпая в этом оживлении разряжение сковавшей его оторопи, закивал головою прапорщик (один остался!).
— Хоронить? — переспросил озабоченно Степанов и сразу же ответил себе и этим другим. — Нам нельзя здесь на это терять времени. Залабазим как-нибудь труп и скорее пойдем.
— Значит, так и бросить, как падаль?.. — с нарастающей горечью спросил прапорщик. — Зверям на съедение?
— Нет, зачем?.. Залабазим, лесинами закидаем... Звери не доберутся пока что... — миролюбиво, сдерживая себя, ответил Степанов. — Отвязывайте топоры. А вы, полковник, покараульте... Поглядите, как бы нас не скрали, не подстерегли опять... те...
Снова тишина таежная разорвана: стучат, звенят топоры, валятся, потрескивая деревья. Последнее пристанище наспех готовят своему товарищу путники: путнику, окончившему свой путь, последнее пристанище готовят.
Навалили деревьев, пообчистили от снега полянку. Подошел Степанов к трупу, подумал:
— Надо одежду всю снять!..
— Поклажу и оружие снимем, — отозвался полковник.
— Поклажу, ружье и верхнюю одежду, — повторил Степанов.
— Как?! Раздеть покойника? До-нага?!
— Да... хорошо бы до-нага...
Полковник шагнул к Степанову. Бледное лицо — как маска: искажено гневом и болью. На бледном лице внезапно оживают багровые пятна; горят яростью неугасимой глаза: голос перехватило у полковника. Но он хватает широко раскрытым, оскаленным ртом воздух, и визг рвется из его горла:
— Не сметь!.. Не сметь издеваться над покойником!.. Не сметь!.. Не сметь!..
И этот визг, такой неожиданный, необыкновенный, опаляет хорунжего и прапорщика и даже Степанова. Они глядят почти с испуганным удивлением на этого, прервавшего свое покорное молчание, человека. Они видят его преображенное лицо, откуда глядит на них безумие. И молчат. И только у Степанова, наконец, хватает присутствия духа ответить, остановить этот вопль, этот крик.
— Поймите... — хочет он что-то объяснить, и голос его звучит мягко, успокаивающе... — Поймите...
Но рвутся, рвутся визгом:
— Не сметь!.. Не сметь!..
А потом реакция: отворачивается полковник к дереву, и видно, как вздрагивают его плечи, его спина.
Степанов хмурится и глядит на хмурых и взволнованных хорунжего и прапорщика.
— Поймите... — повторяет он, но голос его звучит тише, словно боится кого-то встревожить. — Ведь это как-раз из-за одежды, вот из-за этого тряпья за нами охотятся... И если мы оставим им, тем, эту одежду, они раззарятся, у них разгорятся зубы, и они будут нас подстреливать поодиночке... А если мы унесем одежду, может быть, они дальше не пойдут за нами... Поймите!..
Но молчат хорунжий и прапорщик.
Степанов устало вздыхает. Смотрит на труп, на спутников.
— Ладно! — говорит он решительно и холодно (в глазах зажглись жесткие точечки). — Давайте скорей укладывать тело... в одежде... Пусть будет по вашему! Принимайтесь!..
Идут к трупу. Бережно отвязывают поклажу, снимают ружье, патронташи, сумки, — все, что теперь не нужно этому отдыхающему путнику.
Берутся за плечи, за ноги; укладывают на обнаженную землю, на закуржевевшую прошлогоднюю траву. Складывают негнущиеся уже руки на груди. И скользят взглядом по залитому кровью лицу.
Полковник отрывается от дерева. Подходит к трупу. Шапку долой. Шапки сняты у всех.
Полковник складывает щепотью ознобленные, вздрагивающие пальцы. Полковник молится. В коротком молчании коротко застывают слова.
И пока он молится, другие бережно обкладывают труп ветвями. Потом кладут на них колоды в клетку. Строят лабаз, чтоб сохранить в нем тело. Так же, как таежные люди лабазят добычу, которую не могут сразу унести из тайги...

В повести «Сладкая полынь» рассказывается о трагической судьбе молодой партизанки Ксении, которая после окончания Гражданской войны вернулась в родную деревню, но не смогла найти себе место в новой жизни...

Роман Гольдберга посвящен жизни сибирской деревни в период обострения классовой борьбы, после проведения раскулачивания и коллективизации.Журнал «Сибирские огни», №1, 1934 г.

Одним из интереснейших прозаиков в литературе Сибири первой половины XX века был Исаак Григорьевич Годьдберг (1884 — 1939).Ис. Гольдберг родился в Иркутске, в семье кузнеца. Будущему писателю пришлось рано начать трудовую жизнь. Удалось, правда, закончить городское училище, но поступить, как мечталось, в Петербургский университет не пришлось: девятнадцатилетнего юношу арестовали за принадлежность к группе «Братство», издававшей нелегальный журнал. Ис. Гольдберг с головой окунается в политические битвы: он вступает в партию эссеров, активно участвует в революционных событиях 1905 года в Иркутске.

Исаак Григорьевич Гольдберг (1884-1939) до революции был активным членом партии эсеров и неоднократно арестовывался за революционную деятельность. Тюремные впечатления писателя легли в основу его цикла «Блатные рассказы».
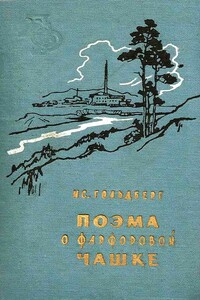
Роман «Поэма о фарфоровой чашке» рассказывает о борьбе молодых директоров фарфорового завода за основательную реконструкцию. Они не находят поддержки в центральном хозяйственном аппарате и у большинства старых рабочих фабрики. В разрешении этого вопроса столкнулись интересы не только людей разных характеров и темпераментов, но и разных классов.

В сборник известного советского прозаика и очеркиста лауреата Ленинской и Государственной РСФСР имени М. Горького премий входят повесть «Депутатский запрос» и повествование в очерках «Только и всего (О времени и о себе)». Оба произведения посвящены актуальным проблемам развития российского Нечерноземья и охватывают широкий круг насущных вопросов труда, быта и досуга тружеников села.

В сборник вошли созданные в разное время публицистические эссе и очерки о людях, которых автор хорошо знал, о событиях, свидетелем и участником которых был на протяжении многих десятилетий. Изображая тружеников войны и мира, известных писателей, художников и артистов, Савва Голованивский осмысливает социальный и нравственный характер их действий и поступков.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.