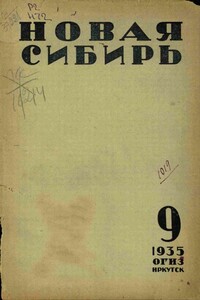Путь, не отмеченный на карте - [5]
8. Отставший спутник.
Дорога, которая еще совсем недавно казалась легкой и удобной, стала почти непроходимой. Шли в самое сердце тайги меж замшевелыми елями, теперь убранными белой филигранью мороза; шли по целому снегу, сверху такому гладкому, но таящему под собой провалищи, бурелом и бугры и засыпанные низкие кустарники. Шли по бездорожью, намечая свой путь почти наугад, уходя от жилищ, не надеясь встретить заброшенные зимовья.
Шли, окрыленные уверенностью, что до цели остается всего несколько дней пути.
Выбирали для ночлега глухие прогалинки, разводили костры и молча готовили ужин, чтобы потом также молча прокоротать длинную зимнюю ночь.
Но молчание это было еще только от усталости. Просто лень было разговаривать после тяжелого перехода, хотелось улечься ближе к костру и впитывать в себя его тепло, его ласку.
И новое — зловещее и угнетающее — вплелось в это молчание позже — на третий день после ухода из села.
До этого еще прорывалась бодрость у прапорщиков, не забывших тогда теплого уюта деревни, и у хорунжего, насмешливо поблескивающего зубами; еще крепился и не уставал полковник. Но после второго ночлега в лесу утром стали запрягать лошадь, а она еле передвигала ноги и, шатаясь, упала на снег. Хорунжий ткнул ее носком валенка под брюхо, но она устало повела головой и закрыла глаза. Ее бока тяжело вздымались и что-то вздрагивало внутри ее, напрягаясь и хлюпая.
— Крышка! — сказал Степанов, наклонившись к лошади. — Падла издыхает!..
— Не может быть! — встрепенулся полковник и тоже наклонился над лошадью.
— А ведь верно! — согласился хорунжий. — Она нам больше не помощница. Бросить придется!
— Но как же провизия, вещи? — растерялся полковник. — Как же мы пойдем дальше без лошади?
— На себе потащим! — хмуро отвечал Степанов. — По-таежному, за плечи уложить придется все, что сможем унести.
Полковник поглядел растерянно на Степанова, потом на хорунжего и замолчал. Так пришло к нему его молчание, которое уже потом прерывалось редко и так ненадолго.
Но Степанов оживился. Словно потеря лошади вдохнула в него новую силу, подстегнула его бодрость. Взяв себе на подмогу обоих прапорщиков, он принялся разбирать и сортировать провизию и вещи, уложенные в санях. Он раскладывал все на пять равных частей, деля поровну на всех все их богатство. Потом он разбил сани, разрубил топором их доски, приладил к ним веревочки и сделал пять примитивных таежных ранцев.
— Вот так будет удобней! — сказал он, взваливая на себя один из них и прилаживая на груди узлы и завязки веревочек. — Теперь мы настоящие горбачи!
Полковник попробовал взять на себя свою часть поклажи и угнетенно закачал головой:
— Не донесу!
Оба прапорщика быстро придвинулись к нему:
— Мы возьмем, полковник, себе часть вашей ноши.
— Да, да, помогите! — заволновался полковник и виновато улыбнулся невеселой улыбкой. — Староват я стал...
Поклажу перевязали. Снова взвалили на плечи полковника.
— Ну, как?
— Да ничего... Как будто справлюсь... Ничего.
Лошадь тяжело поводила боками. Ее полузакрытые глаза синевато поблескивали матовым блеском.
Степанов остановился возле нее и отстегнул кобуру нагана.
— Что вы думаете делать? — изумился хорунжий.
— Идите вперед, я ее пристрелю. Жалко... Налетит зверье... Лучше пристрелить.
— Правильно!..
Коротко и сухо хлопнул выстрел. Шедший впереди прапорщиков полковник остановился, удивленно взглянул на спутников.
— Ничего, ничего, ваше высокоблагородие, — догнав его, попытался пошутить хорунжий. — Одного нашего спутника прикончили... Четвероногого...
Труп лошади коченел возле потухшего костра, вблизи разрубленных, разбитых остатков саней.
Уходили от стойбища гуськом: впереди Степанов, за ним полковник, хорунжий и сзади оба прапорщика. Полусогнувшись под тяжестью поклажи с винтовками в руках, бороздили они снег тяжелыми валенками и оставляли за собой неуклюжий, широкий след.
9. Дыдырца-тунгус видит странный след.
Дыдырца Савелий, тунгус, идя из сосновых борков, где он осматривал ловушки на зверя, увидел этот странный, взбороздивший таежный снег, след.
Две остромордые серые собаки обнюхали этот след, поглядели на Савелия и взвизгнули.
Тунгус наклонился над синеватыми бороздами и ямками, поглядел, подумал — и изумился:
Стояли короткие зимние дни. Еще не пришло время большой охоты, когда несутся по насту, по горячему следу уходящего от смерти сохатого неутомимые и легкие на лыжах охотники. Да и не охотничьи следы это, ибо не так идут охотники, не такая обувь у них, не так тяжел шаг. И где же, наконец, легкие знаки собачьих лап?
Тунгус изумился и задумался:
Странные люди те, что оставляют такие следы. Куда и зачем идут они без собак и, значит, не для промысла? Но если это не охотники, не тунгусы или крестьяне, то не торговые ли это люди, которых вот уже много месяцев не видно возле деревень и которые знают одну свою дорогу? Но зачем торговые люди, привозящие с собою и муку, и сукна, и порох, и свинец, отдающие все это охотникам за меха и шкуры, зачем торговые люди пойдут этим странным путем, ведущим в сторону от жилищ, от деревень, туда, где за хребтами большая река и Великое Озеро?

В повести «Сладкая полынь» рассказывается о трагической судьбе молодой партизанки Ксении, которая после окончания Гражданской войны вернулась в родную деревню, но не смогла найти себе место в новой жизни...

Роман Гольдберга посвящен жизни сибирской деревни в период обострения классовой борьбы, после проведения раскулачивания и коллективизации.Журнал «Сибирские огни», №1, 1934 г.

Одним из интереснейших прозаиков в литературе Сибири первой половины XX века был Исаак Григорьевич Годьдберг (1884 — 1939).Ис. Гольдберг родился в Иркутске, в семье кузнеца. Будущему писателю пришлось рано начать трудовую жизнь. Удалось, правда, закончить городское училище, но поступить, как мечталось, в Петербургский университет не пришлось: девятнадцатилетнего юношу арестовали за принадлежность к группе «Братство», издававшей нелегальный журнал. Ис. Гольдберг с головой окунается в политические битвы: он вступает в партию эссеров, активно участвует в революционных событиях 1905 года в Иркутске.

Исаак Григорьевич Гольдберг (1884-1939) до революции был активным членом партии эсеров и неоднократно арестовывался за революционную деятельность. Тюремные впечатления писателя легли в основу его цикла «Блатные рассказы».
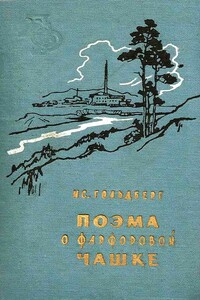
Роман «Поэма о фарфоровой чашке» рассказывает о борьбе молодых директоров фарфорового завода за основательную реконструкцию. Они не находят поддержки в центральном хозяйственном аппарате и у большинства старых рабочих фабрики. В разрешении этого вопроса столкнулись интересы не только людей разных характеров и темпераментов, но и разных классов.

В сборник известного советского прозаика и очеркиста лауреата Ленинской и Государственной РСФСР имени М. Горького премий входят повесть «Депутатский запрос» и повествование в очерках «Только и всего (О времени и о себе)». Оба произведения посвящены актуальным проблемам развития российского Нечерноземья и охватывают широкий круг насущных вопросов труда, быта и досуга тружеников села.

В сборник вошли созданные в разное время публицистические эссе и очерки о людях, которых автор хорошо знал, о событиях, свидетелем и участником которых был на протяжении многих десятилетий. Изображая тружеников войны и мира, известных писателей, художников и артистов, Савва Голованивский осмысливает социальный и нравственный характер их действий и поступков.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.