Пушкинский том - [3]
Конечно, трость не кончалась на «ук», что было большой потерей. Зато само наличие трости в Михайловском было уже более обоснованным: в свое время она у него там была, точно. Это была железная трость в несколько фунтов весом. Известно, что он бродил по дороге, бормотал свои строчки и закидывал вдаль трость, чтобы дойти до нее и снова вперед закинуть. Это не Хармс, а воспоминания. Он так тренировался. Он вообще был очень спортивный господин. Неизвестно, правда, сохранилась ли эта трость, а если сохранилась, то где. Опять же полной уверенности у меня не было, потому что в Михайловском я ее не видел, потому что в нем никогда не был. И не влез эпитет «железная», что оттенил бы эрудицию автора. Значит, лежат на сундуке. Будто он разделся и лег, а это всё на сундук сложил. Будто он до самого сна не выпускал из рук чубук да трость.
Получалось что? Получалось, что, проскочив в трех первых строках три века, наш современник посещает домик поэта в Михайловском. Такой обыкновенный человек, обыватель даже, хотя, возможно, и не в плохом смысле слова, скажем, слесарь-наладчик или мастер цеха, деловой, конкретный человек, ничего против Пушкина не имеющий, относящийся к нему с должным почтением, но всё-таки далекий от понимания всего значения нашего национального гения. Он приехал на экскурсию. На большом автобусе по профсоюзной путевке. Вместе со своими товарищами по работе. В магазин они уже сходили. Получалось, что он входит и своим живым, конкретным глазом примечает. Возможно, его предки были крестьяне, и на многое он здесь взглядывает как бы с генетическим узнаванием. Его, естественно, заинтересовала палка: почему железная? – и чубук – достаточно странной формы. Его так же могла заинтересовать одежда: как, мол, тогда одевались? Тогда бы его поразил ее мальчиковый размер… Естественное музейное удивление, что поэт был, оказывается, совсем как человек: ел, пил, ложился спать – ложился на бочок, – это всегда первое, если не самое сильное впечатление: «Вот всё, что мы увидим». Мы – это, наверно, от лица экскурсии, к которой вдруг и я притесался, невидимый сбоку. Прекрасная идея! Это мог быть некто Боберов, такой недалекий провинциал-пушкинолюб, и это он сейчас сочиняет свои беспомощные вирши, а не я, а я, это самое, уже не сам, а его пишу, как он сочиняет… Спасительный Боберов! Литературный герой, спешащий на выручку погрязшему автору, – это ли не союз! заслуженная награда за творческое усердие. Поглядываю иронически, как посвященный в толпе непосвященных, хочу выделиться в глазах экскурсовода. Образ автора двоился: спасительный для моего невежества мастер совершенно стушевался, как только автор увидел экскурсионную девицу. Только что наметился угол зрения тов. Боберова – так нет, совершенно он не намечался, потому что в следующей строке из-за приговоренности к рифме объявился Овидий, никак с размышлениями нашего мастера не связанный.
И в следующей строке остался уже опять только я, ловящий взгляд экскурсоводши:
Видите ли, этот монолог не выветрился из моих школьных лет! Это называлось «наизусть Шекспира в подлиннике». Это желание в смысле невежества оставаться в тени, спрятавшись за Боберова, а в смысле эрудиции выдвинуться, его заслонив, к сожалению, характеризовало уже не только меня, но и поэта, сочинявшего стихи про Пушкина. Он не был виноват.
Итак, картинка перерастала в сценку. Домик был заселен. Поэт лег спать, а Арина Родионовна за стенкой еще возится. Эрудит явно побеждал: «старушка» была вычеркнута и заменена Ариной. «Шуршит-муршит» оставалось на совести автора как реликт восприятия недалековатого экскурсанта-мастера, а сверхточная рифма «Гамлет – мямлит» был чистый плагиат из известного советского поэта. Сам я Гамлета не зарифмую. Но в качестве эрудита смыкался я тут же с моим мастером-наладчиком: вряд ли Пушкин называл няню Ариной, это мы в школе опускали отчество учителей… А он: «моя старушка», «добрая подружка», «голубка дряхлая», «бедная няня» – никак не Арина, и всё. Написав единым духом, доблестно не задумываясь, два четверостишия, я приостановился было наконец в раздумье, от чьего лица говорю…
Так, может, я и есть и тот и тот человек, и слесарь и эрудит? Что я, мастером в свое время не работал? Перед кем это я за него прячусь или из-за кого это я и для кого высовываюсь? Кому я хочу показаться? Не иначе как Александру Сергеевичу. Вот и весь мотив. Боюсь показаться ему глупым – не глупо ли? Как не покажешься… При Пушкине и Вяземский глуп был [1]. Есть и другой мотив, равный и обратный первому, куда более опасный: одновременно с Пушкиным я и тому Боберову, мастеру, может, хочу показаться и тоже «своим»? Выходит, я и есть тот нормальный и средний человек, который одновременно хочет быть и равным и первым; интеллигентность есть уже нечто постыдное, что нельзя или опасно показать, и мы неумело, а потом и умело, сдобряем ее хамством. «Хоть и в шляпе, а такой же хам, как и вы» – находчивый ответ одного дирижера в очереди за такси. Показаться «простым», «своим», незаносчивым и не много о себе понимающим – это уже не демократизм, а привычный страх, вошедший в плоть и кровь, огрубляющий душу и неизбежно сказавшийся в языке. В грубости нет иронии, какой бы усмешкой она ни была прикрыта. Усмешка осталась на лице, а слово на бумаге. Какая уж тут ирония… или даже – «ироническая интонация»! К кому ирония: к экскурсанту, к экскурсоводу, к себе, к Пушкину? Ничто не спасет. Ирония тычется как слепая, утратив адрес. Все та же полублатная, полуиспуганная, полужалкая и воистину фальшивая ухмылка на разве что бритом, на разве что в очках, на разве что в шляпе, но уже не интеллигентном лице… Кто смеется? над кем смеется? Что вы, упаси Господи, чтобы над вами… Где взять силы, чтобы смеяться еще и над собою?
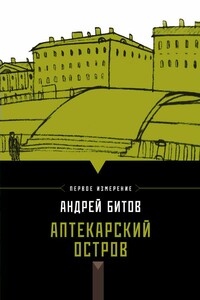
«Хорошо бы начать книгу, которую надо писать всю жизнь», — написал автор в 1960 году, а в 1996 году осознал, что эта книга уже написана, и она сложилась в «Империю в четырех измерениях». Каждое «измерение» — самостоятельная книга, но вместе они — цепь из двенадцати звеньев (по три текста в каждом томе). Связаны они не только автором, но временем и местом: «Первое измерение» это 1960-е годы, «Второе» — 1970-е, «Третье» — 1980-е, «Четвертое» — 1990-е.Первое измерение — «Аптекарский остров» дань малой родине писателя, Аптекарскому острову в Петербурге, именно отсюда он отсчитывает свои первые воспоминания, от первой блокадной зимы.«Аптекарский остров» — это одноименный цикл рассказов; «Дачная местность (Дубль)» — сложное целое: текст и рефлексия по поводу его написания; роман «Улетающий Монахов», герой которого проходит всю «эпопею мужских сезонов» — от мальчика до мужа.
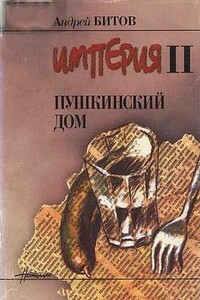
Роман «Пушкинский дом» критики называют «эпохальной книгой», классикой русской литературы XX века. Законченный в 1971-м, он впервые увидел свет лишь в 1978-м — да и то не на родине писателя, а в США.А к российскому читателю впервые пришел только в 1989 году. И сразу стал культовой книгой целого поколения.
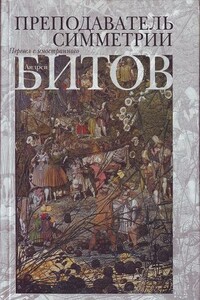
Новый роман Андрея Битова состоит из нескольких глав, каждая из которых может быть прочитана как отдельное произведение. Эти тексты написал неизвестный иностранный автор Э. Тайрд-Боффин о еще менее известном авторе Урбино Ваноски, а Битов, воспроизводя по памяти давно потерянную книгу, просто «перевел ее как переводную картинку».Сам Битов считает: «Читатель волен отдать предпочтение тому или иному рассказу, но если он осилит все подряд и расслышит эхо, распространяющееся от предыдущему к следующему и от каждого к каждому, то он обнаружит и источник его, то есть прочтет и сам роман, а не набор историй».
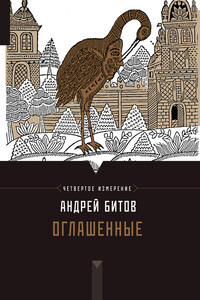
Роман-странствие «Оглашенные» писался двадцать лет (начатый в начале 70-х и законченный в 90-х). По признанию автора, «в этой книге ничего не придумано, кроме автора». Это пазл, сложенный из всех жанров, испробованных автором в трех предыдущих измерениях.Автор знакомит читателя с главными солдатами Империи: биологом-этологом Доктором Д., предлагающем взглянуть на венец природы глазами других живых существ («Птицы, или Новые сведения о человеке»), и художником-реставратором Павлом Петровичем, ищущем свою точку на картине Творца («Человек в пейзаже»)
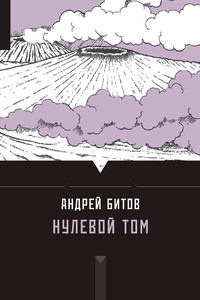
В «Нулевой том» вошли ранние, первые произведения Андрея Битова: повести «Одна страна» и «Путешествие к другу детства», рассказы (от коротких, времен Литературного объединения Ленинградского горного института, что посещал автор, до первого самостоятельного сборника), первый роман «Он – это я» и первые стихи.
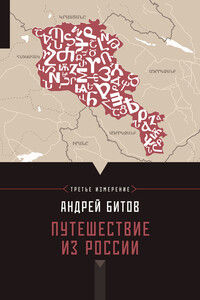
«Империя в четырех измерениях» – это книга об «Империи», которой больше нет ни на одной карте. Андрей Битов путешествовал по провинциям СССР в поиске новых пространств и культур: Армения, Грузия, Башкирия, Узбекистан… Повести «Колесо», «Наш человек в Хиве, или Обоснованная ревность» и циклы «Уроки Армении», «Выбор натуры. Грузинской альбом» – это история народов, история веры и войн, это и современные автору события, ставшие теперь историей Империи.«Я вглядывался в кривую финскую березку, вмерзшую в болото родного Токсова, чтобы вызвать в себе опьянение весенним грузинским городком Сигнахи; и топтал альпийские луга, чтобы утолить тоску по тому же болоту в Токсове».

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Князь Андрей Волконский – уникальный музыкант-философ, композитор, знаток и исполнитель старинной музыки, основоположник советского музыкального авангарда, создатель ансамбля старинной музыки «Мадригал». В доперестроечной Москве существовал его культ, и для профессионалов он был невидимый Бог. У него была бурная и насыщенная жизнь. Он эмигрировал из России в 1968 году, после вторжения советских войск в Чехословакию, и возвращаться никогда не хотел.Эта книга была записана в последние месяцы жизни князя Андрея в его доме в Экс-ан-Провансе на юге Франции.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Он больше чем писатель. Латиноамериканский пророк. Например, когда в Венесуэле (даже не в родной Колумбии!) разрабатывался проект новой конституции, то в результате жаркой, чудом обошедшейся без применения огнестрельного оружия дискуссии в Национальном собрании было решено обратиться к «великому Гарсия Маркесу». Габриель Гарсия Маркес — человек будущего. И эта книга о жизни, творчестве и любви человека, которого Салман Рушди, прославившийся экзерсисами на темы Корана, называет в своих статьях не иначе как «Магический Маркес».

Это не полностью журнал, а статья из него. С иллюстрациями. Взято с http://7dn.ru/article/karavan и адаптировано для прочтения на е-ридере. .

Владимир Дмитриевич Набоков, ученый юрист, известный политический деятель, член партии Ка-Де, член Первой Государственной Думы, род. 1870 г. в Царском Селе, убит в Берлине, в 1922 г., защищая П. Н. Милюкова от двух черносотенцев, покушавшихся на его жизнь.В июле 1906 г., в нарушение государственной конституции, указом правительства была распущена Первая Гос. Дума. Набоков был в числе двухсот депутатов, которые собрались в Финляндии и оттуда обратились к населению с призывом выразить свой протест отказом от уплаты налогов, отбывания воинской повинности и т. п.
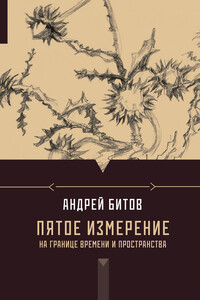
«Пятое измерение» – единство текстов, написанных в разное время, в разных местах и по разным поводам (круглые даты или выход редкой книги, интервью или дискуссия), а зачастую и без видимого, внешнего повода. События и персоны, автор и читатель замкнуты в едином пространстве – памяти, даже когда речь идет о современниках. «Литература оказалась знанием более древним, чем наука», – утверждает Андрей Битов.Требования Андрея Битова к эссеистике те же, что и к художественной прозе (от «Молчания слова» (1971) до «Музы прозы» (2013)).