Пушкинский том - [5]
Тут уже я вступил в область совершенно недопустимую и для меня головоломную. Ни с того ни с сего начался как бы поток сознания самого Пушкина. Эти характеристики могли принадлежать уже только ему или только мне. Ни одно обывательское мнение о Пушкине их не содержало. Получалось некрасиво: что Пушкин, мол, сам о себе в таком бахвальном ключе думает… Правда, у него были некоторые основания… Но тем более. Известно, что во всех автохарактеристиках, как письменных, так и устных, Пушкин бывал необыкновенно скромен (я бы сказал, умен и точен). Но никому не известно, как он мог иной раз подумать. Хотя писать, что ДУМАЛ Пушкин, есть, по излюбленному мною выражению, «вершина падения». Я настолько последовательно и долго себе этого не позволял, так глумился над любыми чужими попытками что-то в этом роде произвести, так мне было ясно, что сам я никогда до этого не паду, что оказался вдруг еще в худшем положении… Стихами о том, о чем думает Пушкин?! Я?? Владеющий стихом много хуже Доризо! Это уже было черт-те что.
«Не токмо не закон…» – куда завела меня эта взявшаяся с потолка строчка! А главное, осознав, я не скомкал и не бросил, не только что не сжег…
Вот, однако, о том, мог ли Пушкин подобным образом про себя думать: отделять себя от Байрона, подтягиваться к Шекспиру, поглядывая в сторону Гёте… Конечно, в таких грубых формулах не мог. Но счет свой он, безусловно, вел, и, кстати, в 1825 году в особенности. Из современников, тем более отечественных, его никто не занимал. Слух о Грибоедове подразнил было… Можно это проследить, даже не чересчур зарываясь в источники. По письмам.
Но писем под рукой нет. Зато в пейзаже объявился рожденный воображением конь…
М-да, Лошадка… Как она сюда забрела?
Приходится посмотреть правде в глаза. Она всегда тут была. Неизбежность текста, приведшая нас к обрыву его, как раз ее и обозначила, Лошадку-правду. Обрыв текста, край его, за пределом которого знания, которых мне здесь не хватает, Пушкин, который не под рукой, то есть и вся манившая меня вдали гипотеза, что «Фауст» Пушкина был написан непосредственно вслед за «Годуновым» и что пресловутый заяц, вылетевший на поэта в канун 14 декабря, сыграл роль того же искушения Судьбы, что и объявление Пуделя перед Фаустом-предшественником (Гётевским), – вся эта заманчивая цепь оборвалась, лишь подтянув мой взгляд от рукописи к окошку, чтобы узреть то ли зыбкость гипотезы в будущем, то ли неточность ее отсчета с самого начала, в который раз столкнувшись с коварством красного словца, пробегающего между художественной правдой и правдой жизни прямо-таки с лисьим рыжим проворством…
Именно рыжим… Коня зовут Рыжка. Правда как бы большая, типическая, художественная состоит в том, что его здесь не может, не должно быть, Рыжка – такая наша деревня, типичная, как проблема, символ Нечерноземья. Типичен труп трактора, догнивающий на его месте, как вымерший динозавр. Но правда, как бы меньшая, случайная, засоряющая строку, что вот он стоит-таки перед моими глазами второй уже год из четырех, что я здесь бываю. Всегда на одном и том же месте, с восхода до заката, как нарисованный. Нарисовал его там в прошлом году Николай Николаевич, единственный на три наши усадьбы процветающий мужик, живой упрек то ли общей нашей системе хозяйствования, то ли нам самим. Хоть бы его и не было, с его овечками и пчелами, тоже была бы правда большая. И до того дошло процветание и неправдоподобие хозяина здесь, что завел он, как заврался, жеребеночка на радость приезжающим из города детям, а больше оказалось ни для чего, ибо когда пришла пора запрягать, то и выяснилось, что никто ни в деревне, ни в соседней центральной колхозной усадьбе оказался не в курсе, как это делается. И это уже не красное словцо, что запряг его единственный раз уже упомянутый милейший Георгий Георгиевич Ш-т. Происхождением – граф, да и на самом деле… Настолько граф, что его здесь даже евреем постепенно перестали считать за простоту и достоинство. Вот он, проведший малолетство в усадьбе своего деда, курского помещика, еще вспомнил, как запрягать, да и запряг, ко всеобщему нашему восторженному недоверию. Но Николай Николаевич, мужик упорный, но туговатый, с первого раза не запомнил, а тут, несчастье, Георгия Георгиевича в больницу увезли надолго. Пришла осень, Рыжку так и не запрягали и упустили веками на то рассчитанное время – Рыжка стал здоровенным жеребцом, так ни разу и не потрудившимся, заматеревшим в безделье, с ним уже и не справиться. Вот и служит он у нас одному пейзажу, до необыкновенности его украшая – сытый, гладкий, как никто у нас в деревне, ибо Николай Николаевич хозяин заботливый, хоть и неумелый. Однако он поговаривает, что сдаст его на живодерню. И уйдет наш бедный пейзаж на мясо, раз уж настолько его нет. Край текста совпадает здесь с краем вида из окошка, краем деревушки нашей и краем западающей за край бесконечной пашни, на краю которой, беспечный и прекрасный, пасется, как нарисованный, наш немыслимый, так ни разу и не работавший, как и трактор, но зато куда более милый сердцу жеребец Рыжка. Уровень листа, стола и подоконника и того края, что обрывает околицу перед пашней, совпадает в одну линию, как у топографа, так что именно тут он и стоит, как на обрыве, как на берегу, будто и деревня наша величиной с островок, с недописанный листок, так же не может иметь в этой жизни продолжения, как и этот текст, тут он и стоит в последней строке, в последнем слове, потому что, если продолжить, повиснет уже в воздухе, станет птицей в небе, умчит от меня нерабочий Пегас наш – Рыжка.
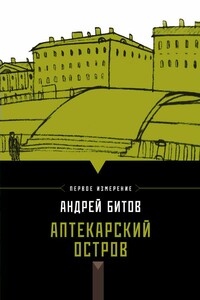
«Хорошо бы начать книгу, которую надо писать всю жизнь», — написал автор в 1960 году, а в 1996 году осознал, что эта книга уже написана, и она сложилась в «Империю в четырех измерениях». Каждое «измерение» — самостоятельная книга, но вместе они — цепь из двенадцати звеньев (по три текста в каждом томе). Связаны они не только автором, но временем и местом: «Первое измерение» это 1960-е годы, «Второе» — 1970-е, «Третье» — 1980-е, «Четвертое» — 1990-е.Первое измерение — «Аптекарский остров» дань малой родине писателя, Аптекарскому острову в Петербурге, именно отсюда он отсчитывает свои первые воспоминания, от первой блокадной зимы.«Аптекарский остров» — это одноименный цикл рассказов; «Дачная местность (Дубль)» — сложное целое: текст и рефлексия по поводу его написания; роман «Улетающий Монахов», герой которого проходит всю «эпопею мужских сезонов» — от мальчика до мужа.
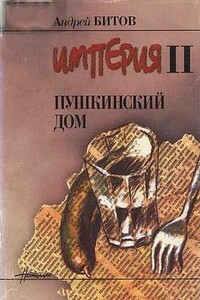
Роман «Пушкинский дом» критики называют «эпохальной книгой», классикой русской литературы XX века. Законченный в 1971-м, он впервые увидел свет лишь в 1978-м — да и то не на родине писателя, а в США.А к российскому читателю впервые пришел только в 1989 году. И сразу стал культовой книгой целого поколения.
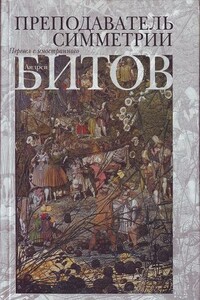
Новый роман Андрея Битова состоит из нескольких глав, каждая из которых может быть прочитана как отдельное произведение. Эти тексты написал неизвестный иностранный автор Э. Тайрд-Боффин о еще менее известном авторе Урбино Ваноски, а Битов, воспроизводя по памяти давно потерянную книгу, просто «перевел ее как переводную картинку».Сам Битов считает: «Читатель волен отдать предпочтение тому или иному рассказу, но если он осилит все подряд и расслышит эхо, распространяющееся от предыдущему к следующему и от каждого к каждому, то он обнаружит и источник его, то есть прочтет и сам роман, а не набор историй».

Роман-странствие «Оглашенные» писался двадцать лет (начатый в начале 70-х и законченный в 90-х). По признанию автора, «в этой книге ничего не придумано, кроме автора». Это пазл, сложенный из всех жанров, испробованных автором в трех предыдущих измерениях.Автор знакомит читателя с главными солдатами Империи: биологом-этологом Доктором Д., предлагающем взглянуть на венец природы глазами других живых существ («Птицы, или Новые сведения о человеке»), и художником-реставратором Павлом Петровичем, ищущем свою точку на картине Творца («Человек в пейзаже»)

В «Нулевой том» вошли ранние, первые произведения Андрея Битова: повести «Одна страна» и «Путешествие к другу детства», рассказы (от коротких, времен Литературного объединения Ленинградского горного института, что посещал автор, до первого самостоятельного сборника), первый роман «Он – это я» и первые стихи.

«Империя в четырех измерениях» – это книга об «Империи», которой больше нет ни на одной карте. Андрей Битов путешествовал по провинциям СССР в поиске новых пространств и культур: Армения, Грузия, Башкирия, Узбекистан… Повести «Колесо», «Наш человек в Хиве, или Обоснованная ревность» и циклы «Уроки Армении», «Выбор натуры. Грузинской альбом» – это история народов, история веры и войн, это и современные автору события, ставшие теперь историей Империи.«Я вглядывался в кривую финскую березку, вмерзшую в болото родного Токсова, чтобы вызвать в себе опьянение весенним грузинским городком Сигнахи; и топтал альпийские луга, чтобы утолить тоску по тому же болоту в Токсове».

Русский серебряный век, славный век расцвета искусств, глоток свободы накануне удушья… А какие тогда были женщины! Красота, одаренность, дерзость, непредсказуемость! Их вы встретите на страницах этой книги — Людмилу Вилькину и Нину Покровскую, Надежду Львову и Аделину Адалис, Зинаиду Гиппиус и Черубину де Габриак, Марину Цветаеву и Анну Ахматову, Софью Волконскую и Ларису Рейснер. Инессу Арманд и Майю Кудашеву-Роллан, Саломею Андронникову и Марию Андрееву, Лилю Брик, Ариадну Скрябину, Марию Скобцеву… Они были творцы и музы и героини…Что за характеры! Среди эпитетов в их описаниях и в их самоопределениях то и дело мелькает одно нежданное слово — стальные.

Эта книга – результат долгого, трудоемкого, но захватывающего исследования самых ярких, известных и красивых любовей XX века. Чрезвычайно сложно было выбрать «победителей», так что данное издание наиболее субъективная книга из серии-бестселлера «Кумиры. Истории Великой Любви». Никого из них не ждали серые будни, быт, мещанские мелкие ссоры и приевшийся брак. Но всего остального было чересчур: страсть, ревность, измены, самоубийства, признания… XX век начался и закончился очень трагично, как и его самые лучшие истории любви.

«В Тургеневе прежде всего хотелось схватить своеобразные черты писательской души. Он был едва ли не единственным русским человеком, в котором вы (особенно если вы сами писатель) видели всегда художника-европейца, живущего известными идеалами мыслителя и наблюдателя, а не русского, находящегося на службе, или занятого делами, или же занятого теми или иными сословными, хозяйственными и светскими интересами. Сколько есть писателей с дарованием, которых много образованных людей в обществе знавали вовсе не как романистов, драматургов, поэтов, а совсем в других качествах…».
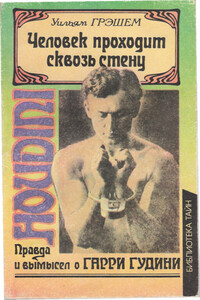
Об этом удивительном человеке отечественный читатель знает лишь по роману Э. Доктороу «Рэгтайм». Между тем о Гарри Гудини (настоящее имя иллюзиониста Эрих Вайс) написана целая библиотека книг, и феномен его таланта не разгадан до сих пор.В книге использованы совершенно неизвестные нашему читателю материалы, проливающие свет на загадку Гудини, который мог по свидетельству очевидцев, проходить даже сквозь бетонные стены тюремной камеры.

Сегодня — 22 февраля 2012 года — американскому сенатору Эдварду Кеннеди исполнилось бы 80 лет. В честь этой даты я решила все же вывесить общий файл моего труда о Кеннеди. Этот вариант более полный, чем тот, что был опубликован в журнале «Кириллица». Ну, а фотографии можно посмотреть в разделе «Клан Кеннеди», где документальный роман был вывешен по главам.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
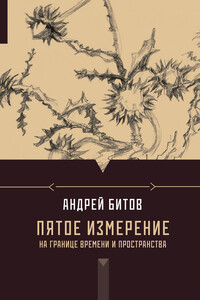
«Пятое измерение» – единство текстов, написанных в разное время, в разных местах и по разным поводам (круглые даты или выход редкой книги, интервью или дискуссия), а зачастую и без видимого, внешнего повода. События и персоны, автор и читатель замкнуты в едином пространстве – памяти, даже когда речь идет о современниках. «Литература оказалась знанием более древним, чем наука», – утверждает Андрей Битов.Требования Андрея Битова к эссеистике те же, что и к художественной прозе (от «Молчания слова» (1971) до «Музы прозы» (2013)).