Пушкинский Дом - [107]
Укрытый теперь внутренней темнотой помещения, за двойными дверьми, он рискнул немножко высунуться и выглянуть в стекло…
Там никого не было.
— «Уф! — сказал он и вытер тыльной стороной руки лоб, как в кино. — Кажется, пронесло».
— «Пронесло?..» — хихикнул наглый голос, и только тогда Лева вспомнил про Митишатьева.
В глубине вспыхнул огонек папироски.
Митишатьев курил, сидя на столе вахтера.
И тут наконец странное спокойствие овладело Левой. Он сидел на полу, привалившись к косяку, так полно и отрешенно вытянувшись. Безопасное его тело испытывало счастье отсутствия. Пот просыхал, натягивался лоб, впадали щеки — сосудистое торжество. Раскаленное безумным бегом тело сжималось, остывая, — прохлада ветерка…
«Чего же я так боялся?! — удивлялся Лева с трезвой простотою. — Почему так бежал?.. От милиционера?.. Но ведь это именно нелепо — бежать от милиционера? Он же как раз ничего и не сделает! Не убьет. Не имеет права убить. Про него-то больше, чем про кого бы то ни было, известно, что он сделает и чего не сделает. Он не убьет. А что еще страшного? — Он вспомнил розовое, как земляничное мыло, детское, под деревенский пушок, лицо; синий >{84}розовощекий топот мундира — все-таки страшно. Но вовсе не потому. Страшно, что такое ребячье, мамкино лицо, это физическое неудобство солдатского тела, от сапог до воротничка, что убегающего — догнать, как в какие-нибудь горелки-жмурки, не подлежит обсуждению. А бежать вот так, обо всем забыв, разве, само по себе, не страшно? Перед собой-то, дойти до такого — должно быть очень страшно. Унизительно ведь так бежать! Какое тут достоинство или личность… Ничего не было. Было только одно — убежать. Такое облако, такое мыло, круглое, как страх. В нем, внутри — Лева, как муха в янтаре. Он ведь не только сам бежал, не от страха убегал: куда же это он мог из страха-то выбежать? — он с ним, в нем бежал, мчался в нем под парусами ужаса, как темная в ночи лодка, гонимая ветром власти. Власть? этот цыпленок! смешно. Это замкнутое пространство страха, с пульсирующей границей за спиною — нагоняет, отстает… с распахнутым, Далеким объятием надежды на избавление впереди. Странное сооружение. Неба над головой не было, звезд. „Каким дробным ужасом оборачивается отсутствие страха божьего! — приоткрывая щелочку для духа, восклицал, избежав себя, Лева. — В страхе я находился — в страхе и нахожусь. Ведь страшно то, что я так страшился и чего! Вместо Бога — милиционера бояться! Махнулись…“
Мысли эти поражали его своей заслуженной очевидностью…
„Чего я боюсь? Да всего я боюсь!“
„Ведь вот сам рассуди, — с детской дрожью голоса в мысли, с детским же ханжеством редко выпадающей роли старшего, играл он с собою в дочки-матери… — Что тебе угрожало? Спокойненько слезть, предъявить документ. Мы проводили научный эксперимент. Документ-эксперимент-экскремент >{85}. Больше научных слов. Его-то напугать легче, чем меня! Почему же я напугался с такой легкостью, с такой безусловностью, с такой мгновенностью — без всякого сопротивления? Ну, побежал по ошибке… Остановись. Что будет с тобой? Максимум, дадут по шее. Разве это больно или обидно? По сравнению со страхом? Отведут в участок, сообщат на работу… Да ведь даже с работы-то вряд ли выгонят. Наоборот, поймут. Пожурят, полюбят, пойдут навстречу… Как же это так до сих пор не знать то, что знаешь уже так давно? Да и выгнали бы. Ведь благо! Сам рассуди… Ведь то, что можно потерять, ничто по сравнению с уже потерянным. Ведь любой вариант — самый худший — благо в сравнении с унижением и страхом. От чего я убегал? Выбирал между унижениями, боялся унижения большего. И выбрал самое большое. Если бы просто убегал, как он догонял: догоняют — беги, — то это правильно, по природе. А то ведь от страха бежал! Ах, какая ошибка! Господи! как я ненавижу все это!“
Он встал, хрустнул. Прямой, решительный, с блеском глаз.
Митишатьева миновал не глядя. Слишком было ясно, как тот сощурился папироской. Нашарил выключатель и включил безбоязненно. Но чувство все разрешающего света не было разрешено слабой дежурной лампочкой. Ничто так уж не озарилось, как представлялось. Он увидел зато тот замечательный синий ящик с несходящимися дверцами — символ артели. Там мог быть пожарный рукав или рубильник. Ящик был свежеокрашен к празднику — Лева измазал руку синим. Там был рубильник. Решительно преодолев робость перед электричеством, Лева его врубил. Порскнули три голубые искры, и лестница озарилась парадным светом. Лева вскинул голову — и впервые увидел всегда висевшую люстру. Сколько Лева помнил, на лестнице всегда был резной дубовый полумрак. Значит, никогда не зажигали, думал Лева, торжественно поднимаясь по лестнице, наступая на ступени, как на клавиши некоего органа, от которых приходила в пение люстра. „Надо же! так высоко и много!“ — думал Лева, играла музыка, распахивались двери, вспыхивали залы. Он покачнулся в темном коридорчике, оперся рукой о случайную стенку — прямо попал в выключатель. Эта невольная, неожиданная удача подтвердила в нем всю эту решительную светомузыку, так что он, уже не оглядываясь и не расплескиваясь, прошел прямо в директорский кабинет, не глядя нажал во все кнопки, озарив его; руку — в свой портфель, на ощупь — сразу нужный лист и сразу, в продолжение, точно войдя в дыхание, быстро записал, записал… Он тем более чувствовал себя вправе наконец продолжить прерванное, что сам вот дожил до предвосхищенного им опыта, сам находился „в середине контраста“. Ему казался отчетливым личный мотив, водивший когда-то рукою гения — этот мотив совпадал, Лева ощутил большое и легкое пространство своего тела. Оно было сейчас — весь этот ДОМ. Озаренный, плыл он сейчас в ночи, как прекрасный корабль, прорезая общий бесшумный мрак.
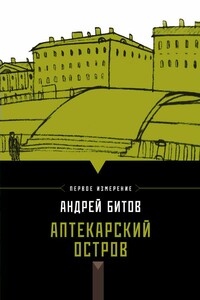
«Хорошо бы начать книгу, которую надо писать всю жизнь», — написал автор в 1960 году, а в 1996 году осознал, что эта книга уже написана, и она сложилась в «Империю в четырех измерениях». Каждое «измерение» — самостоятельная книга, но вместе они — цепь из двенадцати звеньев (по три текста в каждом томе). Связаны они не только автором, но временем и местом: «Первое измерение» это 1960-е годы, «Второе» — 1970-е, «Третье» — 1980-е, «Четвертое» — 1990-е.Первое измерение — «Аптекарский остров» дань малой родине писателя, Аптекарскому острову в Петербурге, именно отсюда он отсчитывает свои первые воспоминания, от первой блокадной зимы.«Аптекарский остров» — это одноименный цикл рассказов; «Дачная местность (Дубль)» — сложное целое: текст и рефлексия по поводу его написания; роман «Улетающий Монахов», герой которого проходит всю «эпопею мужских сезонов» — от мальчика до мужа.
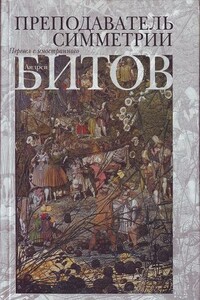
Новый роман Андрея Битова состоит из нескольких глав, каждая из которых может быть прочитана как отдельное произведение. Эти тексты написал неизвестный иностранный автор Э. Тайрд-Боффин о еще менее известном авторе Урбино Ваноски, а Битов, воспроизводя по памяти давно потерянную книгу, просто «перевел ее как переводную картинку».Сам Битов считает: «Читатель волен отдать предпочтение тому или иному рассказу, но если он осилит все подряд и расслышит эхо, распространяющееся от предыдущему к следующему и от каждого к каждому, то он обнаружит и источник его, то есть прочтет и сам роман, а не набор историй».

Роман-странствие «Оглашенные» писался двадцать лет (начатый в начале 70-х и законченный в 90-х). По признанию автора, «в этой книге ничего не придумано, кроме автора». Это пазл, сложенный из всех жанров, испробованных автором в трех предыдущих измерениях.Автор знакомит читателя с главными солдатами Империи: биологом-этологом Доктором Д., предлагающем взглянуть на венец природы глазами других живых существ («Птицы, или Новые сведения о человеке»), и художником-реставратором Павлом Петровичем, ищущем свою точку на картине Творца («Человек в пейзаже»)

В «Нулевой том» вошли ранние, первые произведения Андрея Битова: повести «Одна страна» и «Путешествие к другу детства», рассказы (от коротких, времен Литературного объединения Ленинградского горного института, что посещал автор, до первого самостоятельного сборника), первый роман «Он – это я» и первые стихи.

«Империя в четырех измерениях» – это книга об «Империи», которой больше нет ни на одной карте. Андрей Битов путешествовал по провинциям СССР в поиске новых пространств и культур: Армения, Грузия, Башкирия, Узбекистан… Повести «Колесо», «Наш человек в Хиве, или Обоснованная ревность» и циклы «Уроки Армении», «Выбор натуры. Грузинской альбом» – это история народов, история веры и войн, это и современные автору события, ставшие теперь историей Империи.«Я вглядывался в кривую финскую березку, вмерзшую в болото родного Токсова, чтобы вызвать в себе опьянение весенним грузинским городком Сигнахи; и топтал альпийские луга, чтобы утолить тоску по тому же болоту в Токсове».

«Пушкинский том» писался на протяжении всего творческого пути Андрея Битова и состоит из трех частей.Первая – «Вычитание зайца. 1825» – представляет собой одну и ту же историю (анекдот) из жизни Александра Сергеевича, изложенную в семи доступных автору жанрах. Вторая – «Мания последования» – воображаемые диалоги поэта с его современниками. Третья – «Моление о чаше» – триптих о последнем годе жизни поэта.Приложением служит «Лексикон», состоящий из эссе-вариаций по всей канве пушкинского пути.

Семья — это целый мир, о котором можно слагать мифы, легенды и предания. И вот в одной семье стали появляться на свет невиданные дети. Один за одним. И все — мальчики. Автор на протяжении 15 лет вел дневник наблюдений за этой ячейкой общества. Результатом стал самодлящийся эпос, в котором быль органично переплетается с выдумкой.

Действие романа классика нидерландской литературы В. Ф. Херманса (1921–1995) происходит в мае 1940 г., в первые дни после нападения гитлеровской Германии на Нидерланды. Главный герой – прокурор, его мать – знаменитая оперная певица, брат – художник. С нападением Германии их прежней богемной жизни приходит конец. На совести героя преступление: нечаянное убийство еврейской девочки, бежавшей из Германии и вынужденной скрываться. Благодаря детективной подоплеке книга отличается напряженностью действия, сочетающейся с философскими раздумьями автора.

Жизнь Полины была похожа на сказку: обожаемая работа, родители, любимый мужчина. Но однажды всё рухнуло… Доведенная до отчаяния Полина знакомится на крыше многоэтажки со странным парнем Петей. Он работает в супермаркете, а в свободное время ходит по крышам, уговаривая девушек не совершать страшный поступок. Петя говорит, что земная жизнь временна, и жить нужно так, словно тебе дали роль в театре. Полина восхищается его хладнокровием, но она даже не представляет, кем на самом деле является Петя.

«Неконтролируемая мысль» — это сборник стихотворений и поэм о бытие, жизни и окружающем мире, содержащий в себе 51 поэтическое произведение. В каждом стихотворении заложена частица автора, которая очень точно передает состояние его души в момент написания конкретного стихотворения. Стихотворение — зеркало души, поэтому каждая его строка даёт читателю возможность понять душевное состояние поэта.

О чем этот роман? Казалось бы, это двенадцать не связанных друг с другом рассказов. Или что-то их все же объединяет? Что нас всех объединяет? Нас, русских. Водка? Кровь? Любовь! Вот, что нас всех объединяет. Несмотря на все ужасы, которые происходили в прошлом и, несомненно, произойдут в будущем. И сквозь века и сквозь столетия, одна женщина, певица поет нам эту песню. Я чувствую любовь! Поет она. И значит, любовь есть. Ты чувствуешь любовь, читатель?

События, описанные в повестях «Новомир» и «Звезда моя, вечерница», происходят в сёлах Южного Урала (Оренбуржья) в конце перестройки и начале пресловутых «реформ». Главный персонаж повести «Новомир» — пенсионер, всю жизнь проработавший механизатором, доживающий свой век в полузаброшенной нынешней деревне, но сумевший, несмотря ни на что, сохранить в себе то человеческое, что напрочь утрачено так называемыми новыми русскими. Героиня повести «Звезда моя, вечерница» встречает наконец того единственного, кого не теряла надежды найти, — свою любовь, опору, соратника по жизни, и это во времена очередной русской смуты, обрушения всего, чем жили и на что так надеялись… Новая книга известного российского прозаика, лауреата премий имени И.А. Бунина, Александра Невского, Д.Н. Мамина-Сибиряка и многих других.