Пушкинский Дом - [108]
И основной движущей силой его сюжета явился страх. „Выбор между унижениями, страх унижения большего… Страх во всем, страх всего; всего своего и сейчас: движения, жеста, интонации, вкуса, погоды… что-то нам все время напоминает что-то… А тут сказали чьим-то голосом слова другого, ты в этот момент подносил ко рту чашку жестом утонувшего в младенчестве брата, погода напомнила тебе вкусом папиросной затяжки другой возраст, другую местность, другое чувство, а сам ты обнаруживаешь, что эту-то вот мысль, о чашке и затяжке, уже думал когда-то — ужас!“
Это протрезвление фразы в конце уравновесило и то, что он не подносил сейчас никакой такой чашки и что брат его никогда не тонул, да и в младенчестве не был, потому что брата не было, и то, что страх Евгения не имел-таки отношения к уловленной Левой линии собственного страха… Но он уже проскочил позор и неловкость случайности разбега — прыгнул:
„Завершение ряда, срывание ягод — вдруг что-то выпадает на дно со стуком: брякает вниз чье-то случайное лицо… Оказывается, ты его уже отмечал не раз, не замечая — набрался ряд. Мысль эту ты уже думал не ловя — тут вдруг, ветерком, поймал — никогда больше ее не подумать. Смена времен года — в который раз! сколько можно! надоел этот букварь.
И перед ужасом заслуженного возмездия, — наконец писал Лева, — идиотская российская мысль о том, что счастье уже было, что именно то и было счастьем, что было. Мол, не пропущено… Смирение бунта…“
Как-то потемнело, что ли? Лева потерял нить. Не то чтобы потерял, но дальше напряжение становилось еще выше, еще невыносимей, там уже ледяной ветер позванивал в подвесках лестничной люстры. И Лева довольствовался фразой о возмездии — пропадал свет, таяло. Но и действительно, ничто не освещало более комнату, как настольная лампа. Лева сидел в мохнатом комке света, — а вокруг был мрак. Детский страх чьего-то еще присутствия совсем очистил душу — он встрепенулся, кашица ужаса во рту; осторожно, незаметно для того, темного в углу, стал оглядываться. Над плечом, вытянув шею, заглядывая, не дыша, не касаясь, руки за спину, стоял Митишатьев.
„Ты?“ — с ужасом спросил Лева. Голоса своего он не узнал, но голос происходил из него.
— Ты чего так испугался? — смутившись, сказал Митишатьев. — Всюду свет зажег…
„Ага, значит, это Митишатьев потушил…“ — понял Лева про свет. Лева мог бы про себя отметить это редкое для Митишатьева качество смущения, но тут вспомнил, как шел торжественно и зажигал, а Митишатьев, стало быть, сзади крался и тушил… Погасил иллюминаторы — темный корабль шел на дно.
— Ты что, милиционера испугался? Ха-ха-ха. Решил, что Готтих уже донес?.. Так он и не стукач вовсе. Я это просто так, для тебя, сказал.
— Ну, и сволочь же ты все-таки, — с медленной и прохладной дрожью возвращающегося голоса сказал Лева.
Митишатьев выпрямился, избавился от позы подглядывания, головой ушел в темноту.
— Ты так думаешь? — тоже спокойно прозвучал его голос, уже без тени смущения.
— Я раньше думал, что ты все-таки порядочный человек, — дрожащим детским голосом говорил Лева, — а теперь понял, что нет.
— Почему же это ты думал? — вразрядку, ударяя и выделяя каждое слово, ядовито, мерно говорил Митишатьев, так что каждое из слов попадало в мнительную душу Левы, и Лева постепенно обижался все сильнее. Особенно обидна была ирония насчет „ты — и думал…“. Словно бы и не писал он только что конгениальных слов. Что касается наших умственных способностей — тут мы словно бы меньше всего уверены: так легко нас задеть.
— А вот думал! — вспылил Лева.
— Почему же ты раньше-то думал, что я порядочный? — ровно сказал Митишатьев, и в этом была убедительная логика.
По природе-то Лева был справедливый человек и поэтому не успевал, за соображениями выгоды, не согласиться с правотою. Поэтому он опешил и забыл про обиду.
— То есть как? А за кого ты себя выдавал?
— А ни за кого. Это ты меня принимал за кого-то. Нет, Лева, все-таки ты дурак. Все-то тебе кажется, что если человек дерьмо, то он таким только кажется, нарочно, из неких психологических причин, имеющих социально-историческую основу, — а он и есть дерьмо. Хочешь, Лева, я тебе, от всей души, совет дам? Так сказать, одно правило подскажу. „Правило правой руки Митишатьева“… >{86} „Если человек кажется дерьмом, — то он и есть дерьмо“. Хочешь, я тебе — правда, сколько можно человека мучить! — хочешь, я тебе расскажу, как на самом деле? Ведь ты очень, всю жизнь, хотел бы узнать, как другие на самом деле, и не можешь? Ведь тебе кажется, что тобой особенно интересуются силы зла, ведь кажется? Я тебе скажу: действительно, интересно. Я ведь как на тебя напоролся? Смотрю: не сволочь… Ах, ты, думаю, чем же он не сволочь?! Все, как у сволочи, а не сволочь! Ну, стал испытывать. Испытывать, известно, наше, сил зла, дело. А ты не испытываешься. Из-под всего выкручиваешься. Все объяснишь по-своему и успокоишься. А если не успокоишься, — то так мучиться и страдать начнешь, таким мировым упреком, что, кажется, убил бы тебя собственными руками — так ненавижу тебя за то, что ты меня виноватым в своей жизни делаешь. Ведь не имеет к тебе жизнь-то отношения! Что ты принимаешь ее на свой счет?! Она сама по себе. Она к тебе не расположена. Тебе еще везет, ты не думай — тебя любят… А ведь есть еще люди, которых и не любят. Не любит никто! Ты об этом, об этих хоть раз задумывался? Каково им? Ты думаешь, что тебя предают, изменяют? Да чему же изменить, как не любви! Нелюбви нельзя изменить, ее можно лишь поменять на нелюбовь же. Ты думаешь, ты любишь?! Как же! Да ты за человека никого не считаешь. Ты ничего за другими признать не хочешь, кроме верности себе же. Тогда ты снисходителен. От неверности — страдаешь, чтобы допить человека до дна, высосать изменника — поэтому неверности за ним не признаешь, признание заменяешь страданием. Да ты любой бунт задушишь! только задушенных ты тоже не любишь — как посинеет, так и разлюбишь, причем, по справедливости, задело, с полным правом. Господи, да совести-то как раз у тебя нет!
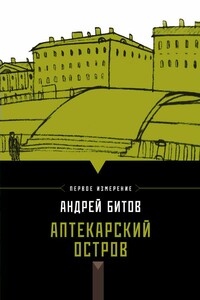
«Хорошо бы начать книгу, которую надо писать всю жизнь», — написал автор в 1960 году, а в 1996 году осознал, что эта книга уже написана, и она сложилась в «Империю в четырех измерениях». Каждое «измерение» — самостоятельная книга, но вместе они — цепь из двенадцати звеньев (по три текста в каждом томе). Связаны они не только автором, но временем и местом: «Первое измерение» это 1960-е годы, «Второе» — 1970-е, «Третье» — 1980-е, «Четвертое» — 1990-е.Первое измерение — «Аптекарский остров» дань малой родине писателя, Аптекарскому острову в Петербурге, именно отсюда он отсчитывает свои первые воспоминания, от первой блокадной зимы.«Аптекарский остров» — это одноименный цикл рассказов; «Дачная местность (Дубль)» — сложное целое: текст и рефлексия по поводу его написания; роман «Улетающий Монахов», герой которого проходит всю «эпопею мужских сезонов» — от мальчика до мужа.
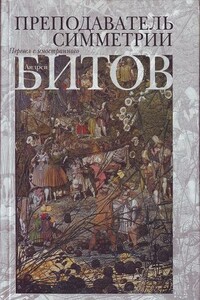
Новый роман Андрея Битова состоит из нескольких глав, каждая из которых может быть прочитана как отдельное произведение. Эти тексты написал неизвестный иностранный автор Э. Тайрд-Боффин о еще менее известном авторе Урбино Ваноски, а Битов, воспроизводя по памяти давно потерянную книгу, просто «перевел ее как переводную картинку».Сам Битов считает: «Читатель волен отдать предпочтение тому или иному рассказу, но если он осилит все подряд и расслышит эхо, распространяющееся от предыдущему к следующему и от каждого к каждому, то он обнаружит и источник его, то есть прочтет и сам роман, а не набор историй».

Роман-странствие «Оглашенные» писался двадцать лет (начатый в начале 70-х и законченный в 90-х). По признанию автора, «в этой книге ничего не придумано, кроме автора». Это пазл, сложенный из всех жанров, испробованных автором в трех предыдущих измерениях.Автор знакомит читателя с главными солдатами Империи: биологом-этологом Доктором Д., предлагающем взглянуть на венец природы глазами других живых существ («Птицы, или Новые сведения о человеке»), и художником-реставратором Павлом Петровичем, ищущем свою точку на картине Творца («Человек в пейзаже»)

В «Нулевой том» вошли ранние, первые произведения Андрея Битова: повести «Одна страна» и «Путешествие к другу детства», рассказы (от коротких, времен Литературного объединения Ленинградского горного института, что посещал автор, до первого самостоятельного сборника), первый роман «Он – это я» и первые стихи.

«Империя в четырех измерениях» – это книга об «Империи», которой больше нет ни на одной карте. Андрей Битов путешествовал по провинциям СССР в поиске новых пространств и культур: Армения, Грузия, Башкирия, Узбекистан… Повести «Колесо», «Наш человек в Хиве, или Обоснованная ревность» и циклы «Уроки Армении», «Выбор натуры. Грузинской альбом» – это история народов, история веры и войн, это и современные автору события, ставшие теперь историей Империи.«Я вглядывался в кривую финскую березку, вмерзшую в болото родного Токсова, чтобы вызвать в себе опьянение весенним грузинским городком Сигнахи; и топтал альпийские луга, чтобы утолить тоску по тому же болоту в Токсове».

«Пушкинский том» писался на протяжении всего творческого пути Андрея Битова и состоит из трех частей.Первая – «Вычитание зайца. 1825» – представляет собой одну и ту же историю (анекдот) из жизни Александра Сергеевича, изложенную в семи доступных автору жанрах. Вторая – «Мания последования» – воображаемые диалоги поэта с его современниками. Третья – «Моление о чаше» – триптих о последнем годе жизни поэта.Приложением служит «Лексикон», состоящий из эссе-вариаций по всей канве пушкинского пути.

Две женщины — наша современница студентка и советская поэтесса, их судьбы пересекаются, скрещиваться и в них, как в зеркале отражается эпоха…

Жизнь в театре и после него — в заметках, притчах и стихах. С юмором и без оного, с лирикой и почти физикой, но без всякого сожаления!

От автора… В русской литературе уже были «Записки юного врача» и «Записки врача». Это – «Записки поюзанного врача», сумевшего пережить стадии карьеры «Ничего не знаю, ничего не умею» и «Все знаю, все умею» и дожившего-таки до стадии «Что-то знаю, что-то умею и что?»…

У Славика из пригородного лесхоза появляется щенок-найдёныш. Подросток всей душой отдаётся воспитанию Жульки, не подозревая, что в её жилах течёт кровь древнейших боевых псов. Беда, в которую попадает Славик, показывает, что Жулька унаследовала лучшие гены предков: рискуя жизнью, собака беззаветно бросается на защиту друга. Но будет ли Славик с прежней любовью относиться к своей спасительнице, видя, что после страшного боя Жулька стала инвалидом?

В России быть геем — уже само по себе приговор. Быть подростком-геем — значит стать объектом жесткой травли и, возможно, даже подвергнуть себя реальной опасности. А потому ты вынужден жить в постоянном страхе, прекрасно осознавая, что тебя ждет в случае разоблачения. Однако для каждого такого подростка рано или поздно наступает время, когда ему приходится быть смелым, чтобы отстоять свое право на существование…

История подростка Ромы, который ходит в обычную школу, живет, кажется, обычной жизнью: прогуливает уроки, забирает младшую сестренку из детского сада, влюбляется в новенькую одноклассницу… Однако у Ромы есть свои большие секреты, о которых никто не должен знать.