Пушкин — либертен и пророк. Опыт реконструкции публичной биографии - [32]
Я обещал Н‹иколаю› М‹ихайловичу› ‹Карамзину› два года ничего не писать противу правительства и не писал. Кинжал не против правительства писан, и хоть стихи и не совсем чисты в отношении слога, но намерение в них безгрешно (XIII, 167).
Конечно, у Пушкина были серьезные основания утверждать, что смысл стихотворения, определяемый творческим «намерением» автора, не сводится к выражению политического радикализма, но правда и то, что в контексте пушкинского публичного поведения весны 1821 года стихотворение выглядело как вызывающе революционное[242].
Если до конца марта 1821 года оппозиция Пушкина по отношению к «порядку вещей» не имела ярко выраженного публичного характера, то с конца марта 1821 года она этот характер приобрела, напоминая то «площадное вольнодумство», в котором А. И. Тургенев винил поэта в последние месяцы его петербургской жизни.
Именно к весне 1821 года относится донесение секретных агентов о том, что «Пушкин ругает публично и даже в кофейных домах не только военное начальство, но даже и правительство»[243]. Кишиневский собеседник поэта П. И. Долгоруков оставил свидетельство о, пожалуй, самом радикальном выражении «площадного вольнодумства» Пушкина, сделанном поэтом среди кишиневских чиновников, за столом у И. Н. Инзова: «На дворян русских особенно нападал Пушкин. Их надобно всех повесить, а если б это было, то он с удовольствием затягивал бы петли»[244]. Несомненно, такого рода высказывания (хотя мы и не утверждаем, что именно это) заставили современников приписать Пушкину авторство следующего четверостишия: «Мы добрых граждан позабавим / И у позорного столпа / Кишкой последнего попа / Последнего царя удавим» (II, 488), которое, как определенно доказал В. Д. Рак[245], Пушкину не принадлежало.
Поступки поэта публика приравнивала к его творчеству. Более того, весной 1821 года реакция на поступки поэта опережала реакцию публики на его произведения, поскольку широкий круг русских читателей начала двадцатых годов мог судить об оппозиционном настроении поэта (особенно в конфессиональной сфере) исключительно по его поступкам. Дело в том, что вольнолюбивые его произведения («Кинжал», «Вольность», «Деревня», эпиграммы, дружеские послания) были известны относительно узкому кругу лиц, тогда как экстравагантные поступки сразу становились достоянием самой широкой публики. Пав. П. Вяземский вспоминал:
Сведения о каждом его ‹Пушкина› шаге сообщались во все концы России. Пушкин так умел обставить все свои выходки, что на первых порах самые лучшие его друзья приходили в ужас и распускали вести под этим первым впечатлением. Нет сомнения, что Пушкин производил и смолоду впечатление на всю Россию не одним своим поэтическим талантом. Его выходки много содействовали его популярности, и самая загадочность его характера обращала внимание на человека, от которого всегда можно было ожидать неожиданное[246].
Важнейшим средством самовыражения Пушкина этого периода стала переписка, своеобразный синтез творчества и поведения. Именно здесь тема изгнания получила наиболее «кощунственное» выражение. Так, в письме А. И. Тургеневу от 7 мая 1821 года, в котором содержится просьба вернуть его из ссылки, поэт называет Кишинев островом Пафмосом, а себя самого — пишущим «сочинение во вкусе Апокалипсиса», имея в виду «Гавриилиаду». При этом поэту важно подчеркнуть и то, что он, подобно Иоанну, сослан, и то, что и на него, как на Иоанна, снизошел Святой Дух.
А о том, что его при написании «Гавриилиады» «Всевышний осенил Своей небесной благодатью» (2, 203), поэт говорит в стихотворном наброске «Вот Муза, резвая болтунья…», который, по атрибуции С. М. Бонди, есть черновик послания Вяземскому при посылке «Гавриилиады» и также датируется маем 1821 года (II, 1099).
Именно весной 1821 года, в ту пору, когда поведение поэта носит характер шокирующего современников кощунства, поэтическое вдохновение сравнивается с «огнем небесным» (2, 183). Нам представляется, что это не просто кощунство; протест, выражаемый поведением Пушкина, далеко выходил за политические рамки и носил богоборческий характер, не случайно временем для него были выбраны Страстная неделя и Пасха. Осознание того, что он обманут и обречен жить в Кишиневе, вместо того чтобы быть возвращенным в Петербург, заставили Пушкина вести себя столь вызывающим образом. Весной 1820 года тактика вызова привела к тому, что Пушкин сумел защитить свое доброе имя от инсинуаций. Но тогда объектом его действий были только «земные власти». Теперь же, весной 1821 года, недовольство судьбой столь велико, что Пушкин бросает вызов и «небесному царю». И это мало похоже на афеизм или на ритуальное пасхальное кощунство, это поведение человека, ощущавшего с Всевышним свою связь и осмелившегося напомнить Ему о Его неправоте. Если не генетически, то типологически такое поведение сродни поведению Иова.
Публичное поведение поэта во многих случаях стало важнейшим контекстом, определившим восприятие его произведений читающей публикой. Что же касается внелитературной среды, то здесь публичное поведение поэта приобрело самостоятельное эстетическое значение. Возможно, что таким образом оказывались задействованными представления о профетической роли поэта, сложившиеся в русском обществе

Как наследие русского символизма отразилось в поэтике Мандельштама? Как он сам прописывал и переписывал свои отношения с ним? Как эволюционировало отношение Мандельштама к Александру Блоку? Американский славист Стюарт Голдберг анализирует стихи Мандельштама, их интонацию и прагматику, контексты и интертексты, а также, отталкиваясь от знаменитой концепции Гарольда Блума о страхе влияния, исследует напряженные отношения поэта с символизмом и одним из его мощнейших поэтических голосов — Александром Блоком. Автор уделяет особое внимание процессу преодоления Мандельштамом символистской поэтики, нашедшему выражение в своеобразной игре с амбивалентной иронией.
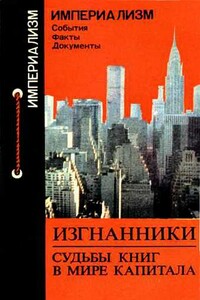
Очерки, эссе, информативные сообщения советских и зарубежных публицистов рассказывают о судьбах книг в современном капиталистическом обществе. Приведены яркие факты преследования прогрессивных книг, пропаганды книг, наполненных ненавистью к социалистическим государствам. Убедительно раскрыт механизм воздействия на умы читателей, рассказано о падении интереса к чтению, тяжелом положении прогрессивных литераторов.Для широкого круга читателей.
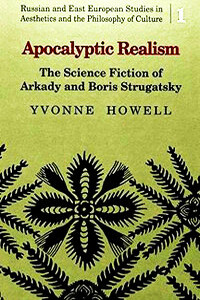
Данное исследование частично выполняет задачу восстановления баланса между значимостью творчества Стругацких для современной российской культуры и недополучением им литературоведческого внимания. Оно, впрочем, не предлагает общего анализа места произведений Стругацких в интернациональной научной фантастике. Это исследование скорее рассматривает творчество Стругацких в контексте их собственного литературного и культурного окружения.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассматриваются индивидуальные поэтические системы второй половины XX — начала XXI века: анализируются наиболее характерные особенности языка Л. Лосева, Г. Сапгира, В. Сосноры, В. Кривулина, Д. А. Пригова, Т. Кибирова, В. Строчкова, А. Левина, Д. Авалиани. Особое внимание обращено на то, как авторы художественными средствами исследуют свойства и возможности языка в его противоречиях и динамике.Книга адресована лингвистам, литературоведам и всем, кто интересуется современной поэзией.

В книге делается попытка подвергнуть существенному переосмыслению растиражированные в литературоведении канонические представления о творчестве видных английских и американских писателей, таких, как О. Уайльд, В. Вулф, Т. С. Элиот, Т. Фишер, Э. Хемингуэй, Г. Миллер, Дж. Д. Сэлинджер, Дж. Чивер, Дж. Апдайк и др. Предложенное прочтение их текстов как уклоняющихся от однозначной интерпретации дает возможность читателю открыть незамеченные прежде исследовательской мыслью новые векторы литературной истории XX века.

Книга известного литературоведа посвящена исследованию самоубийства не только как жизненного и исторического явления, но и как факта культуры. В работе анализируются медицинские и исторические источники, газетные хроники и журнальные дискуссии, предсмертные записки самоубийц и художественная литература (романы Достоевского и его «Дневник писателя»). Хронологические рамки — Россия 19-го и начала 20-го века.

Если рассматривать науку как поле свободной конкуренции идей, то закономерно писать ее историю как историю «победителей» – ученых, совершивших большие открытия и добившихся всеобщего признания. Однако в реальности работа ученого зависит не только от таланта и трудолюбия, но и от места в научной иерархии, а также от внешних обстоятельств, в частности от политики государства. Особенно важно учитывать это при исследовании гуманитарной науки в СССР, благосклонной лишь к тем, кто безоговорочно разделял догмы марксистско-ленинской идеологии и не отклонялся от линии партии.