Пушкин. Духовный путь поэта. Книга вторая. Мир пророка [заметки]
1
Надо заметить, и я благодарен Н. В. Корниенко за уточнение в ходе дискуссии на конференции, посвященной Вс. Иванову в ИМЛИ (2015), что в советской России в 1937 году, при праздновании двадцатилетия Октябрьской революции, количество материалов, опубликованных в самых различных изданиях — от газет, журналов до книг и сборников статей и посвященных Пушкину, превышало число публикаций, связанных с первой крупной датой советского государства. На первый взгляд легко увидеть в этом известную идеологическую установку власти (правда, чтобы тут же задаться вопросом, а почему для власти юбилей поэта оказался важнее ее собственной истории), если не учесть ту по сути метафизическую потребность новой русской культуры опереться на что-то такое, что является совершенно незыблемым интеллектуально, эмоционально близким и безотчетно любимым.
2
Это слово по-своему было любимо поэтом: «Есть упоение в бою и бездны мрачной на краю» («Пир во время чумы») или из «Полтавы»: «Кто испытающим умом Проникнет в бездну роковую Души коварной…».
3
Автор надеется, что употребление им некоторых риторических фигур при описании историко-культурной ситуации России рубежа XVIII — начала XIX веков будет адекватно воспринята читателем.
4
Любопытным образом подобные умозаключения русского мыслителя перекликаются с суждением М. Фуко, философа с «другого берега», что, так или иначе, но говорит о глубинном и именно эпистемологическом единстве европейской культуры: «Странным образом человек, познание которого для неискушенного взгляда кажется самым древним исследованием со времен Сократа, есть, несомненно, не более чем некий разрыв в порядке вещей, во всяком случае, конфигурация, очерченная тем современным положением, которое он занял ныне в сфере знания. Отсюда произошли все химеры новых типов гуманизма, все упрощения „антропологии“, понимаемой как общее, по лупозитивное, полуфилософское размышление о человеке. Тем не менее утешает и приносит глубокое успокоение мысль о том, что человек — всего лишь недавнее изобретение, образование, которому нет и двух веков, малый холмик в поле нашего знания, и что он исчезнет, как только оно примет новую форму» [9, 41]. Чудная по настроению максима Фуко, произведенная истинно во французском духе, где с одновременным восхищением человеком указывается на его «истинное» место с точки зрения подвернутой под это дело глобальной концепции «де-актуализации» человека, на его теперешнее подчиненное положение во всей системе знания, много более важной, чем он сам.
5
Надо заметить, что существует капитальный труд Ф. П. Аделунга «Критико-литературное обозрение путешественников по России до 1700 г. и их сочинений», вышедшее в Петербурге на немецком языке в 1846 году (русский перевод появился в 1864 году). В книге представлены сведения о 107 посещениях и путешествиях по средневековой Руси. Уникальными свидетельствами о жизни древней Руси и России конца XVIII — начала XIX века являются труды Адама Олеария, фон Герберштейна, Майерберга и других.
6
Мы не считаем необходимым приводить и сравнивать точки зрения и теории Шпенглера, Броделя, Тойнби, Хантингтона и других мыслителей, полагая, что это не добавит что-либо существенное к предмету нашего рассмотрения — пушкинской концепции истории.
7
А что «Заветные сказки» русского народа и встречающиеся в них, да и в других жанрах фольклора, резко сатирическое изображение представителей церкви, не есть проявление той самой стихийной силы отрицания высшего начала, которое, может быть, и рассматривается как очередное его (народа) испытание?
8
Для удобства читателя полные тексты стихотворений, которые анализируются в данной главе книги, приведены в приложении в конце раздела.
9
Хотя я безусловно согласен с В. Непомнящим, что понятие лирического героя мало применимо к пушкинской поэзии — перед нами прямое выражение предельных состояний духа и богатства эмоций самого поэта. По крайней мере это характерно для парадигмы пушкинских текстов, связанных с его духовным преображением и поисками новых смыслов в Бытии.
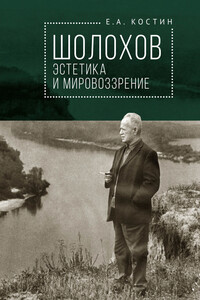
Профессор Евгений Костин широко известен как автор популярных среди читателей книг о русской литературе. Он также является признанным исследователем художественного мира М.А. Шолохова. Его подход связан с пониманием эстетики и мировоззрения писателя в самых крупных масштабах: как воплощение основных констант русской культуры. В новой работе автор демонстрирует художественно-мировоззренческое единство творчества М.А. Шолохова. Впервые в литературоведении воссоздается объемная и богатая картина эстетики писателя в целом.
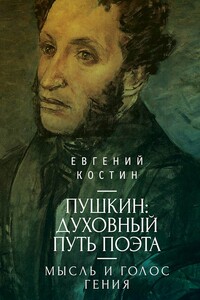
Новая книга известного слависта, профессора Евгения Костина из Вильнюса, посвящена творчеству А. С. Пушкина: анализу писем поэта, литературно-критических статей, исторических заметок, дневниковых записей Пушкина. Широко представленные выдержки из писем и публицистических работ сопровождаются комментариями автора, уточнениями обстоятельств написания и отношений с адресатами.
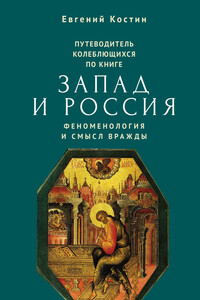
В настоящем издании представлены основные идеи и концепции, изложенные в фундаментальном труде известного слависта, философа и культуролога Е. Костина «Запад и Россия. Феноменология и смысл вражды» (СПб.: Алетейя, 2021). Автор предлагает опыт путеводителя, или синопсиса, в котором разнообразные подходы и теоретические положения почти 1000-страничной работы сведены к ряду ключевых тезисов и утверждений. Перед читателем предстает сокращенный «сценарий» книги, воссоздающий содержание и главные смыслы «Запада и России» без учета многообразных исторических, историко-культурных, философских нюансов и перечня сопутствующей аргументации. Книга может заинтересовать читателя, погруженного в проблематику становления и развития русской цивилизации, но считающего избыточным скрупулезное научное обоснование выдвигаемых тезисов.

Первая треть XIX века отмечена ростом дискуссий о месте женщин в литературе и границах их дозволенного участия в литературном процессе. Будет известным преувеличением считать этот период началом становления истории писательниц в России, но большинство суждений о допустимости занятий женщин словесностью, которые впоследствии взяли на вооружение критики 1830–1860‐х годов, впервые было сформулированы именно в то время. Цель, которую ставит перед собой Мария Нестеренко, — проанализировать, как происходила постепенная конвенционализация участия женщин в литературном процессе в России первой трети XIX века и как эта эволюция взглядов отразилась на писательской судьбе и репутации поэтессы Анны Петровны Буниной.

Для современной гуманитарной мысли понятие «Другой» столь же фундаментально, сколь и многозначно. Что такое Другой? В чем суть этого феномена? Как взаимодействие с Другим связано с вопросами самопознания и самоидентификации? В разное время и в разных областях культуры под Другим понимался не только другой человек, с которым мы вступаем во взаимодействие, но и иные расы, нации, религии, культуры, идеи, ценности – все то, что исключено из широко понимаемой общественной нормы и находится под подозрением у «большой культуры».

Биография Джоан Роулинг, написанная итальянской исследовательницей ее жизни и творчества Мариной Ленти. Роулинг никогда не соглашалась на выпуск официальной биографии, поэтому и на родине писательницы их опубликовано немного. Вся информация почерпнута автором из заявлений, которые делала в средствах массовой информации в течение последних двадцати трех лет сама Роулинг либо те, кто с ней связан, а также из новостных публикаций про писательницу с тех пор, как она стала мировой знаменитостью. В книге есть одна выразительная особенность.

Лидия Гинзбург (1902–1990) – автор, чье новаторство и место в литературном ландшафте ХХ века до сих пор не оценены по достоинству. Выдающийся филолог, автор фундаментальных работ по русской литературе, Л. Гинзбург получила мировую известность благодаря «Запискам блокадного человека». Однако своим главным достижением она считала прозаические тексты, написанные в стол и практически не публиковавшиеся при ее жизни. Задача, которую ставит перед собой Гинзбург-прозаик, – создать тип письма, адекватный катастрофическому XX веку и новому историческому субъекту, оказавшемуся в ситуации краха предыдущих индивидуалистических и гуманистических систем ценностей.

В книге собраны воспоминания об Антоне Павловиче Чехове и его окружении, принадлежащие родным писателя — брату, сестре, племянникам, а также мемуары о чеховской семье.

Поэзия в Китае на протяжении многих веков была радостью для простых людей, отрадой для интеллигентов, способом высказать самое сокровенное. Будь то народная песня или стихотворение признанного мастера — каждое слово осталось в истории китайской литературы.Автор рассказывает о поэзии Китая от древних песен до лирики начала XX века. Из книги вы узнаете о главных поэтических жанрах и стилях, известных сборниках, влиятельных и талантливых поэтах, группировках и течениях.Издание предназначено для широкого круга читателей.