Пушкин. Духовный путь поэта. Книга вторая. Мир пророка - [114]
Вот эта невоплощаемость Пушкина только в составе его текстов, безусловное превышение им непосредственно художественных и культурно-исторических задач делает его фигуру не просто незаменимой, но единственно понимаемой как «столп и основание» русской словесности.
Та литература, которая никогда не мыслит себя только литературой, та философия, которая не позволяет себе уповать на решение задач только умозрительных, та культура, которая стремится стать прибежищем и хранительницей всего и всех — все эти «ненормальности» русской гуманитарной мысли берут свое начало у него, у Пушкина. И при всем при этом, они, эти универсалии национально-духовной жизни, были выражены у него наиболее естественно, то есть «нормально».
Сегодняшнее адекватное понимание Пушкина наступает только там и только для тех, кто решится помыслить о нем в предельно широком интеллектуальном контексте, кто увидит за его текстами то русское слово, какое сформировало эту культуру, эту историю, этот народ.
Поразительно точно звучат слова одного из глубочайших мыслителей ХХ века Мартина Хайдеггера применительно именно к Пушкину. М. Хайдеггер писал: «Поэзия есть учреждение бытия в слове. Поэзия — не только украшение, временами сопутствующее существованию человека, и поэзия не только наступающее иногда вдохновение или, быть может, простое возбуждение и развлечение. Поэзия — основа и опора исторического совершения и потому не только явление культуры и уж тем более не простое „выражение“ некой „души культуры“… Поэзия есть именование, учреждающеее бытие и бытийную сущность вещей, — не какое-нибудь говорение, но глаголание, когда впервые в просторы разверзтости все то, о чем в повседневной речи мы начинаем потом торговаться и празднословить. (У Пушкина в „Пророке“: „И вырвал грешный мой язык, и празднословный и лукавый“ — Е. К.) Потому поэзия никогда не подбирает себе язык как наличествующий материал для обработки, но только поэзия и делает возможным язык. П о э з и я е с т ь п р а я з ы к и с т о р и ч е с к о г о н а р о д а (выделено нами — Е. К.). Язык впервые дает возможность стоять среди разверзтых просторов сущего. Где язык, только там и мир, то есть непрестанно преобразующаяся округа произвола и трескотни, гибели и смятения. Только там, где владычественно правит язык, есть историческое совершение» [9, XII].
Эта бытийность Пушкина, о которой сказано чуть выше, в полном своем объеме всегда находила у него предельно ясный и вещественно воплощенный эквивалент. В этом-то и заключена безусловная изначальность и неделимость Пушкина, что вышнее у него сополагается с предметным, с вещественно-плотным, зримым, осязаемым. Как писал другой русский гений, Андрей Платонов, — «догадаться об истине нельзя, до нее можно только доработаться», то есть представить небывшее — осуществившимся, воплотившимся, нашедшим «вещество существования».
М. Хайдеггер поставил также вопрос о существовании пределов истолкования сущего в языке вообще, и в языке искусства в частности. Им убедительно было показано, что существуют разные способы определения «вещности вещи» в языке [9, 57]. Нечто фундаментальное связано с необходимость определить в языке такое «строение вещи», какое будет эквивалентно «строению суждения» о ней. А для искусства еще более важный момент — мера строения суждения о вещи.
Пушкин придал русскому языку не только внутреннюю «меру» его, но дал многим «вещам», сущностям в русском языке то «постоянство и упорство», которое определило сам факт устойчивого бытования и развития этого языка и — что очень важно — всего остального бытия, которое опирается на него и которое им же во многом формируется.
Теперь вопрос даже не о загадке, как т а к о е ему, Пушкину, удалось, а о том, как этим воспользоваться, освоить, понять то, что наверняка еще осталось непонятым и неосвоенным нами и по сию пору. Как «присвоит», т. е. сделать своим, пушкинский способ мышления о бытии, который столь универсален и полон жизни, что мы до него просто не дотянулись, хотя постоянно была иллюзия увидеть этот «барьер» преодоленным; или тем паче постараться избежать искуса обнаружить предмет для подражания в других культурах.
Набоков, много духовного напряжения употребивший для постижения Пушкина, проделавший поистине титаническую работу по пристальному чтению и комментированию «Евгения Онегина», будучи одним из самых совершенных и виртуозных «владетелей» русского языка, тем не менее всякий раз завершал свои рассуждения о поэте простодушными восклицаниями о непереводимой и сем самым непостижимой тайне Пушкина.
Он замечал в эссе «Пушкин, или правда и правдоподобие», что «гегелевская философия у нас (в России — Е. К.) плохо привилась. Однако ни на одно мгновение не поблекла истина Пушкина, нерушимая как сознание» [10, 422].
Не только гегелевская философия плохо привилась в России. Судя по историческим результатам, не в полной мере удалась и попытка бородатых классиков марксизма; кажется, эта же судьба уготована и Мартину Хайдеггеру, но что до этого Пушкину, что нам до этого, ибо в России за в с ё и на в с е вопросы отвечать все равно суждено ему — Александру Пушкину.
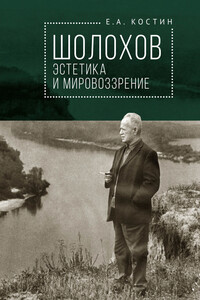
Профессор Евгений Костин широко известен как автор популярных среди читателей книг о русской литературе. Он также является признанным исследователем художественного мира М.А. Шолохова. Его подход связан с пониманием эстетики и мировоззрения писателя в самых крупных масштабах: как воплощение основных констант русской культуры. В новой работе автор демонстрирует художественно-мировоззренческое единство творчества М.А. Шолохова. Впервые в литературоведении воссоздается объемная и богатая картина эстетики писателя в целом.
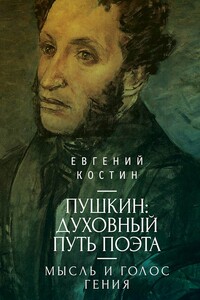
Новая книга известного слависта, профессора Евгения Костина из Вильнюса, посвящена творчеству А. С. Пушкина: анализу писем поэта, литературно-критических статей, исторических заметок, дневниковых записей Пушкина. Широко представленные выдержки из писем и публицистических работ сопровождаются комментариями автора, уточнениями обстоятельств написания и отношений с адресатами.
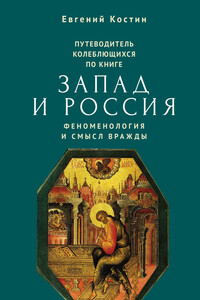
В настоящем издании представлены основные идеи и концепции, изложенные в фундаментальном труде известного слависта, философа и культуролога Е. Костина «Запад и Россия. Феноменология и смысл вражды» (СПб.: Алетейя, 2021). Автор предлагает опыт путеводителя, или синопсиса, в котором разнообразные подходы и теоретические положения почти 1000-страничной работы сведены к ряду ключевых тезисов и утверждений. Перед читателем предстает сокращенный «сценарий» книги, воссоздающий содержание и главные смыслы «Запада и России» без учета многообразных исторических, историко-культурных, философских нюансов и перечня сопутствующей аргументации. Книга может заинтересовать читателя, погруженного в проблематику становления и развития русской цивилизации, но считающего избыточным скрупулезное научное обоснование выдвигаемых тезисов.

Первая треть XIX века отмечена ростом дискуссий о месте женщин в литературе и границах их дозволенного участия в литературном процессе. Будет известным преувеличением считать этот период началом становления истории писательниц в России, но большинство суждений о допустимости занятий женщин словесностью, которые впоследствии взяли на вооружение критики 1830–1860‐х годов, впервые было сформулированы именно в то время. Цель, которую ставит перед собой Мария Нестеренко, — проанализировать, как происходила постепенная конвенционализация участия женщин в литературном процессе в России первой трети XIX века и как эта эволюция взглядов отразилась на писательской судьбе и репутации поэтессы Анны Петровны Буниной.

Для современной гуманитарной мысли понятие «Другой» столь же фундаментально, сколь и многозначно. Что такое Другой? В чем суть этого феномена? Как взаимодействие с Другим связано с вопросами самопознания и самоидентификации? В разное время и в разных областях культуры под Другим понимался не только другой человек, с которым мы вступаем во взаимодействие, но и иные расы, нации, религии, культуры, идеи, ценности – все то, что исключено из широко понимаемой общественной нормы и находится под подозрением у «большой культуры».

Биография Джоан Роулинг, написанная итальянской исследовательницей ее жизни и творчества Мариной Ленти. Роулинг никогда не соглашалась на выпуск официальной биографии, поэтому и на родине писательницы их опубликовано немного. Вся информация почерпнута автором из заявлений, которые делала в средствах массовой информации в течение последних двадцати трех лет сама Роулинг либо те, кто с ней связан, а также из новостных публикаций про писательницу с тех пор, как она стала мировой знаменитостью. В книге есть одна выразительная особенность.

Лидия Гинзбург (1902–1990) – автор, чье новаторство и место в литературном ландшафте ХХ века до сих пор не оценены по достоинству. Выдающийся филолог, автор фундаментальных работ по русской литературе, Л. Гинзбург получила мировую известность благодаря «Запискам блокадного человека». Однако своим главным достижением она считала прозаические тексты, написанные в стол и практически не публиковавшиеся при ее жизни. Задача, которую ставит перед собой Гинзбург-прозаик, – создать тип письма, адекватный катастрофическому XX веку и новому историческому субъекту, оказавшемуся в ситуации краха предыдущих индивидуалистических и гуманистических систем ценностей.

В книге собраны воспоминания об Антоне Павловиче Чехове и его окружении, принадлежащие родным писателя — брату, сестре, племянникам, а также мемуары о чеховской семье.

Поэзия в Китае на протяжении многих веков была радостью для простых людей, отрадой для интеллигентов, способом высказать самое сокровенное. Будь то народная песня или стихотворение признанного мастера — каждое слово осталось в истории китайской литературы.Автор рассказывает о поэзии Китая от древних песен до лирики начала XX века. Из книги вы узнаете о главных поэтических жанрах и стилях, известных сборниках, влиятельных и талантливых поэтах, группировках и течениях.Издание предназначено для широкого круга читателей.