ПСС. Том 13. Война и мир. Черновые редакции и варианты - [261]
— Мне просить государя! — закричал Денисов, бросая карты, — об чем? Ежели бы я был разбойник, я бы просил милости, а то я сужусь за то, что я вывожу на чистую воду разбойников! — Он встал и взял бумагу. — Пускай судят, я никого не боюсь! Я честно служил царю и отечеству и не крал! и меня разжаловать?...
— Да полноте горячиться-то, — уговаривал его Тушин. — Ведь не всё по справедливости делается.
— Это вы говорите! — налившимися кровью глазами глядя на Тушина, кричал Денисов.
Но несмотря на крик и горячность Денисова, Тушин и другие больничные товарищи его все напустились на него. Все доказывали ему, что дело его очень дурно, что он только портит его, раздразнивая их своими бумагами, что единственное спасение для него состоит в том, чтобы прямо, помимо начальства, просить милости государя, и что теперь или никогда он должен написать это письмо и передать его своему приятелю, графу Ростову, у которого верно есть связи в штабе, и который передаст письмо государю. Денисов долго, молча, опустив глаза, слушал их, потом схватился за волосы и, опрокинув стул, подошел к другому столу и стал писать. Через полчаса он с робкой, странной для Ростова улыбкой подал ему письмо.
— Так что ли, — сказал он, — коли подличать. Ах, чорт возьми! — Письмо было исправлено, переписано и передано Ростову.
— Нет, брат, правдой не проживешь. Ведь ты подумай, все их мерзости... — уже поздно вечером говорил он с печальным лицом сидевшему против него Ростову. Ростов не слушал его, не понимал ничего из того, что он говорил. Глазам его представлялись всё те же завистливые, покоренные страданием лица, которые он видел в гошпитале, слышались ему звуки этих хрипений и метаний по жесткому полу и всё слышался ему тот запах мертвого тела от живых людей, который поразил его в солдатском гошпитале. «И вот он, Денисов, и нет Денисова. И что всё это значит?» думал он.
* № 92 (наборная рукопись. T. II, ч. 2, гл. I).
<Это состояние, в первый раз в жизни наведшее на него тоску, было ему очень тяжело и мучительно. Но это тяжелое и мучительное состояние имело для него свою неотразимую прелесть. Он боялся выйти из этого состояния. Всё в нем самом и вокруг него, во всем мире представлялось ему столь запутанным, бессмысленным и безобразным, что он боялся одного, как бы люди не втянули его опять в жизнь, как бы не вывели его из этого презрения ко всему, в котором одном он находил раздражающее, тревожное наслаждение.>
«Торжковская торговка клянется богом, что туфли козловые и стоят пять рублей, а она знает, что они барановые и не стоят двух. А у меня сотни рублей, которых мне некуда деть, и она в прорванной шубе[3138] стоит и робко смотрит на меня. И я жалею дать ей эти пять рублей. Кто из нас прав, кто виноват?» Пьер велел камердинеру взять туфли и дать ей деньги.[3139]
* № 93 (наборная рукопись. T. II, ч. 2, гл. I).
Это был невысокий, ширококостый, худой человек лет шестидесяти с[3140] седеющими, нависшими бровями над блестящими[3141] карими глазами.
Pierre снял ноги со стола, встал и перелег на кровать, изредка поглядывая на вошедшего.
Проезжающий[3142] имел[3143] вид вместе ученого и помещика. На нем была черная бекеша, застегнутая до верху, и высокие сапоги; седая большая голова была коротко обстрижена, и на указательном пальце был большой чугунный перстень с каким то изображением.[3144]
Он сел у стола, расстегнулся, шепнул что-то слуге и, получив от него книгу, которая показалась Pierr’y духовною, стал читать, изредка взглядывая на Безухова и раза два встретившись с ним глазами. Строгое и спокойное выражение этого взгляда[3145] раздражительно действовало на Pierr’a. Ему всякий раз хотелось заговорить с проезжающим и сообщить ему свои мысли, но всякий раз он опаздывал и уже проезжающий опять читал. Слуга проезжающего был весь покрытый морщинками желтый старичок без усов и бороды, которые видимо не были сбриты, но никогда и не росли у него. Поворотливый старичок слуга[3146] разбирал погребец, приготовлял чайный стол и принес кипящий самовар. Налив себе один стакан чаю, проезжающий налил другой безбородому старичку и подал ему. Этот поступок поразил Pierr’a. Он положил свою книгу и стал пристальнее вглядываться в проезжающего. Ему казалось, что он прежде где то видал его и что еще прежде он замечал твердый, строгий и полный жизни старческий взгляд этого человека.[3147]
Проезжающий выпил свой стакан, налил другой слуге и опять взялся за книгу. Слуга принес назад свой пустой, перевернутый стакан с недокусанным кусочком сахара и спросил, не нужно ли чего.
— Ступай, отдохни, — сказал проезжающий басистым голосом.
— Прокоша, — окликнул он уже выходившего слугу, — скажи смотрителю, чтоб к вечеру были сдаточные.
Когда слуга вышел, проезжающий опять углубился в чтение.
* № 94 (рук. № 88 и наборная рук. т. II, ч. 2, гл. II).
— Я никогда не посмею сказать, что я знаю истину, — сказал масон. — Никто один не может достигнуть до истины, только камень за камнем с участием всех, миллионами поколений, от праотца Адама и до нашего времени воздвигается храм Соломона, который должен быть достойным жилищем великого бога. Ежели я знаю что нибудь, ежели я дерзаю сам, ничтожный раб, приходить на помощь ближнему, то только от того, что я есмь составная часть великого целого, что я есмь звено невидимой цепи, начало которой пропадает в небесах. Вот как

Рассказы, собранные в этой книге, были написаны великим русским писателем Львом Николаевичем Толстым (1828–1910) специально для детей. Вот как это было. В те времена народ был безграмотный, школ в городах было мало, а в деревнях их почти не было.Лев Николаевич Толстой устроил в своём имении Ясная Поляна школу для крестьянских детей. А так как учебников тоже не было, Толстой написал их сам.Так появились «Азбука» и «Четыре русские книги для чтения». По ним учились несколько поколений русских детей.Рассказы, которые вы прочтёте в этом издании, взяты из учебных книг Л.

Те, кто никогда не читал "Войну и мир", смогут насладиться первым вариантом этого великого романа; тех же, кто читал, ждет увлекательная возможность сравнить его с "каноническим" текстом. (Николай Толстой)

«Анна Каренина», один из самых знаменитых романов Льва Толстого, начинается ставшей афоризмом фразой: «Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему». Это книга о вечных ценностях: о любви, о вере, о семье, о человеческом достоинстве.
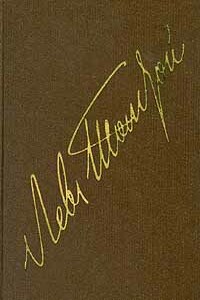
В томе печатается роман «Воскресение» (1889–1899) — последний роман Л. Н. Толстого.http://rulitera.narod.ru.

Детство — Что может быть интереснее и прекраснее открытия мира детскими глазами? Именно они всегда широко открыты, очень внимательны и на редкость проницательны. Поэтому Лев Толстой взглянул вокруг глазами маленького дворянина Николеньки Иртеньева и еще раз показал чистоту и низменность чувств, искренность и ложь, красоту и уродство...
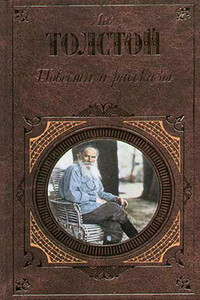
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Соседка по пансиону в Каннах сидела всегда за отдельным столиком и была неизменно сосредоточена, даже мрачна. После утреннего кофе она уходила и возвращалась к вечеру.

Алексей Алексеевич Луговой (настоящая фамилия Тихонов; 1853–1914) — русский прозаик, драматург, поэт.Повесть «Девичье поле», 1909 г.

«Лейкин принадлежит к числу писателей, знакомство с которыми весьма полезно для лиц, желающих иметь правильное понятие о бытовой стороне русской жизни… Это материал, имеющий скорее этнографическую, нежели беллетристическую ценность…»М. Е. Салтыков-Щедрин.

«Сон – существо таинственное и внемерное, с длинным пятнистым хвостом и с мягкими белыми лапами. Он налег всей своей бестелесностью на Савельева и задушил его. И Савельеву было хорошо, пока он спал…».
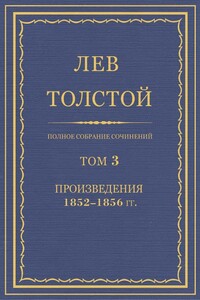
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
