Психодиахронологика - [12]
4.3. Нехватка дара компенсируется заимствованием, перениманием чужого опыта (которое Пушкин нередко коннотирует как воровство, т. е. как провинность), репересонализацией текста (ср. выдвижение имитации на жанрообразующую роль в словесном искусстве всего европейского романтизма[47]): «…Я краду иногда! <…> Словцо из Коцебу, стих целый из Вольтера, И даже у своих <…> Как мало своего — придется занимать» («Исповедь бедного стихотворца», I, 323–324)[48].
Индивидуальное творчество, раз оно ущербно, невозможно без инспирации, без внушения извне; в том случае, если инспирация не обладает интертекстуальной природой, она исходит от высших, трансцендентных сил: «Но лишь божественный глагол До слуха чуткого коснется, Душа поэта встрепенется…» («Поэт», III-1, 65); «И ныне с высоты духовной Мне руку простираешь ты, И силой кроткой и любовной Смиряешь буйные мечты. Твоим огнем душа палима Отвергла мрак земных сует, И внемлет арфе Серафима В священном ужасе поэт» («В часы забав иль праздной скуки…», III-1, 212). Вне же зависимости от сверхъестественных сил поэт тождествен толпе: «Пока не требует поэта К священной жертве Аполлон, В заботы суетного света Он малодушно погружен…» («Поэт» (III-1, 65)); обратим внимание на концептуализацию творца в образе жертвы; уравнивание поэзии с жертвоприношением обычно для Пушкина: «Свободу лишь учася славить, Стихами жертвуя лишь ей, Я не рожден царей забавить Стыдливой Музою своей» («К Н. Я. Плюсковой», II-1, 65)).
Недостаточность, подражательность человеческого творчества противопоставляется совершенству того сакрального искусства, которым владеет трансцендентный инспиратор: «…и слегка, По звонким скважинам пустого тростника, Уже наигрывал я слабыми перстами И гимны важные, внушенные богами, И песни мирные фригийских пастухов» vs. «Прилежно я внимал урокам девы тайной, И, радуя меня наградою случайной <…> Сама из рук моих свирель она брала. Тростник был оживлен божественным дыханьем И сердце наполнял святым очарованьем» («Муза», II-1, 164).
4.4.1. По Пушкину, стихотворный текст имеет предметом то, что лишается своего качества, — так, «любовь» поэта трансформируется в «уныние» (кастрационная тоска хорошо известна психоаналитикам), но не в «ненависть»: «Слыхали ль вы за рощей глас ночной Певца любви, певца своей печали?» («Певец», I, 211); «Певцы любви! вы ведали печали <…> И мукою бессмертны вы своей!» («Любовь одна — веселье жизни хладной…», I, 215).
Чем в большей степени эстетический объект утрачивает признаковое наполнение, тем более он способствует художественному созиданию: смерть героя возвращает поэту креативность, которой ему недоставало: «…И в роковом огне сражений Паденье ратных и вождей! Предметы гордых песнопений Разбудят мой уснувший гений!» («Война» (II-1, 166); ср. кладбищенскую поэзию романтизма в целом).
4.4.2. Личность поэта вызывает к себе особый интерес и сочувствие тогда, когда он приговорен к смертной казни: «Подъялась вновь усталая секира И жертву новую зовет. Певец готов; задумчивая лира В последний раз ему поет» («Андрей Шенье», II-1, 397); в контексте рассуждений о кастрационном комплексе существенно, что рисуемая здесь смерть поэта наступает в результате усекновения головы, одной из оконечностей тела: «…а ты, свирепый зверь, Моей главой играй теперь: Она в твоих когтях» (II-1, 401)[49]. Предпосылка творчества — исчезновение возможностей, которыми располагает тело: «Певец! когда перед тобой Во мгле сокрылся мир земной, Мгновенно твой проснулся Гений…» («Козлову», II-1, 391). Акт приобретения дара («Пророк») состоит в том, что тело избранника подвергается операциям, в результате которых ампутируются органы, наделенные высокой физической или психической чувствительностью, — они заменяются либо органами, несущими смерть («язык» → «жало змеи»), либо мертвой материей («сердце» →→ «уголь»):
(III-1, 30)
4.5. Если творчество не становится дефектным по той причине, что у творца нет требующихся от него способностей, то оно обессмысливается из-за эстетической и этической глухоты реципиента. Читатель «кастрирует» писателя, делает напрасным оплодотворяющий труд просветителя: «Свободы сеятель пустынный, Я вышел рано, до звезды; Рукою чистой и безвинной <мотив „безвинности“ делает здесь „руку“ негативной метонимией penis’a. — И.С.> В порабощенные бразды Бросал живительное семя — Но потерял я только время, Благие мысли и труды…» (II-1, 302). Поэт воспроизводит всякое звучание в мире, но сам не находит резонанса — ср. «Эхо»: «Тебе ж нет отзыва… Таков И ты, поэт!» (III-1, 276). Один из поворотов обсуждаемой темы — изображение поэта, попавшего в полностью чуждую ему среду, которая не просто не хочет, но и не обязана отзываться на его стихи:

Что такое смысл? Распоряжается ли он нами или мы управляем им? Какова та логика, которая отличает его от значений? Как он воплощает себя в социокультурной практике? Чем вызывается его историческая изменчивость? Конечен он либо неисчерпаем? Что делает его то верой, то знанием? Может ли он стать Злом? Почему он способен перерождаться в нонсенс? Вот те вопросы, на которые пытается ответить новая книга известного филолога, философа, культуролога И.П. Смирнова, автора книг «Бытие и творчество», «Психодиахронологика», «Роман тайн “Доктор Живаго”», «Социософия революции» и многих других.

Подборка около 60 статей написанных с 1997 по 2015 ггИгорь Павлович Смирнов (р. 1941) — филолог, писатель, автор многочисленных работ по истории и теории литературы, культурной антропологии, политической философии. Закончил филологический факультет ЛГУ, с 1966 по 1979 год — научный сотрудник Института русской литературы АН СССР, в 1981 году переехал в ФРГ, с 1982 года — профессор Констанцского университета (Германия). Живет в Констанце (Германия) и Санкт-Петербурге.

В книге профессора И. П. Смирнова собраны в основном новые работы, посвященные художественной культуре XX века. В круг его исследовательских интересов в этом издании вошли теория и метатеория литературы; развитие авангарда вплоть до 1940–1950-х гг.; смысловой строй больших интертекстуальных романов – «Дара» В. Набокова и «Доктора Живаго» Б. Пастернака; превращения, которые претерпевает в лирике И. Бродского топика поэтического безумия; философия кино и самопонимание фильма относительно киногенной действительности.
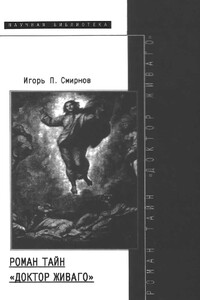
Исследование известного литературоведа Игоря П. Смирнова посвящено тайнописи в романе Б. Пастернака «Доктор Живаго» Автор стремится выявить зашифрованный в нем опыт жизни поэта в культуре, взятой во многих измерениях — таких, как история, философия, религия, литература и искусство, наука, пытается заглянуть в смысловые глубины этого значительного и до сих пор неудовлетворительно прочитанного произведения.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В своей речи по случаю присуждения ему Нобелевской премии, произнесенной 7 декабря 1999 года в Стокгольме, немецкий писатель Гюнтер Грасс размышляет о послевоенном времени и возможности в нём литературы, о своих литературных корнях, о человечности и о противоречивости человеческого бытия…

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Предмет этой книги — искусство Бродского как творца стихотворений, т. е. самодостаточных текстов, на каждом их которых лежит печать авторского индивидуальности. Из шестнадцати представленных в книге работ западных славистов четырнадцать посвящены отдельным стихотворениям. Наряду с подробным историко-культурными и интертекстуальными комментариями читатель найдет здесь глубокий анализ поэтики Бродского. Исследуются не только характерные для поэта приемы стихосложения, но и такие неожиданные аспекты творчества, как, к примеру, использование приемов музыкальной композиции.

Эта книга удивительна тем, что принадлежит к числу самых последних более или менее полных исследований литературного творчества Толкиена — большого писателя и художника. Созданный им мир - своего рода Зазеркалье, вернее, оборотная сторона Зеркала, в котором отражается наш, настоящий, мир во всех его многогранных проявлениях. Главный же, непреложный закон мира Толкиена, как и нашего, или, если угодно, сила, им движущая, — извечное противостояние Добра и Зла. И то и другое, нетрудно догадаться, воплощают в себе исконные обитатели этого мира, герои фантастические и вместе с тем совершенно реальные: с одной стороны, доблестные воители — хоббиты, эльфы, гномы, люди и белые маги, а с другой, великие злодеи — колдуны со своими приспешниками.Чудесный свой мир Толкиен создавал всю жизнь.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Франция привыкла считать себя интеллектуальным центром мира, местом, где культивируются универсальные ценности разума. Сегодня это представление переживает кризис, и в разных странах появляется все больше публикаций, где исследуются границы, истоки и перспективы французской интеллектуальной культуры, ее место в многообразной мировой культуре мысли и словесного творчества. Настоящая книга составлена из работ такого рода, освещающих статус французского языка в культуре, международную судьбу так называемой «новой французской теории», связь интеллектуальной жизни с политикой, фигуру «интеллектуала» как проводника ценностей разума в повседневном общественном быту.

В книге делается попытка подвергнуть существенному переосмыслению растиражированные в литературоведении канонические представления о творчестве видных английских и американских писателей, таких, как О. Уайльд, В. Вулф, Т. С. Элиот, Т. Фишер, Э. Хемингуэй, Г. Миллер, Дж. Д. Сэлинджер, Дж. Чивер, Дж. Апдайк и др. Предложенное прочтение их текстов как уклоняющихся от однозначной интерпретации дает возможность читателю открыть незамеченные прежде исследовательской мыслью новые векторы литературной истории XX века.

В книге рассматриваются индивидуальные поэтические системы второй половины XX — начала XXI века: анализируются наиболее характерные особенности языка Л. Лосева, Г. Сапгира, В. Сосноры, В. Кривулина, Д. А. Пригова, Т. Кибирова, В. Строчкова, А. Левина, Д. Авалиани. Особое внимание обращено на то, как авторы художественными средствами исследуют свойства и возможности языка в его противоречиях и динамике.Книга адресована лингвистам, литературоведам и всем, кто интересуется современной поэзией.

Если рассматривать науку как поле свободной конкуренции идей, то закономерно писать ее историю как историю «победителей» – ученых, совершивших большие открытия и добившихся всеобщего признания. Однако в реальности работа ученого зависит не только от таланта и трудолюбия, но и от места в научной иерархии, а также от внешних обстоятельств, в частности от политики государства. Особенно важно учитывать это при исследовании гуманитарной науки в СССР, благосклонной лишь к тем, кто безоговорочно разделял догмы марксистско-ленинской идеологии и не отклонялся от линии партии.