Проза Александра Солженицына. Опыт прочтения - [25]
«Пушкинизация» фрагментов текста, посвященных однообразной осенне-зимней жизни в тальновской избе и февральской непогоде (задержке с перевозом горницы), открывает и усиливает смыслообразующий пушкинский подтекст описаний ночных (поздневечерних) бдений Игнатьича. Сперва о них говорится обобщенно: «По ночам, когда Матрёна уже спала…» (121), затем — в двух сюжетно сильных позициях — перед исповедью Матрёны и в первые часы после ее гибели (рассказчику еще не открывшейся). По сути, описывается повторяющаяся (неизменная) ситуация: ночь, тьма (или полутьма), странные звуки, связанные с нечеловеческим таинственным миром и движением времени. «Редкое быстрое шуршание мышей под обоями покрывалось слитным, единым, непрерывным, как далёкий шум океана, шорохом тараканов за перегородкой» (121); «…писал своё (именно здесь рассказчик показывает себя писателем. — А. Н.)… под шорох тараканов и постук ходиков» (132) — мыши не названы (о них читатель и так помнит), но введен новый значимый звук; «…я заметил, что очень уж, как никогда, развозились мыши: всё нахальней, всё шумней они бегали под обоями, скребли и попискивали» (138). Резко возросшую активность мышей можно объяснить двояко: рационально (из-за катастрофы прекратилось движение поездов, воцарилась непривычная тишина, в которой любой звук становится более ощутимым, чем обычно) и мистически (мыши почуяли гибель хозяйки и его неизбежное следствие — конец дома)[90]. Хотя рассказчик погружен в себя[91], он фиксирует движение времени: «Прошёл час, другой. И третий» (138) — ясно, что Игнатьич не на циферблат смотрит (это действие человека озабоченного), а в забытьи слышит бой ходиков.
Три взаимодополняющих эпизода воссоздают атмосферу «Стихов, сочиненных ночью во время бессонницы»: «Мне не спится, нет огня; / Всюду мрак и сон докучный. / Ход часов лишь однозвучный / Раздается близ меня. / Парки бабье лепетанье, / Спящей ночи трепетанье, / Жизни мышья беготня… / Что тревожишь ты меня? / Что ты значишь, скучный шепот? / Укоризна или ропот / Мной утраченного дня? / От меня чего ты хочешь? / Ты зовешь или пророчишь? / Я понять тебя хочу, / Смысла я в тебе ищу…»[92] Солженицын, разумеется, не стремится буквально повторить Пушкина. Он говорит о вечной связи: ночь — поэзия — воспоминания и предчувствия — инобытие, вдруг вмешивающееся в жизнь, окликающее человека на непонятном ему языке, — неостановимый ход времени — смерть[93]. Аккуратно сближая рассказчика с Пушкиным[94], а Матрёну — с Ариной Родионовной, Солженицын акцентирует две важнейших взаимосвязанных темы «Матрёнина двора» — тему памяти (сохранения в слове того, что ушло, — погибшего человека, утраченных ценностей, истинного русского мира)[95] и тему единства многообразной и эволюционирующей русской словесности, смысловым центром и воплощением которой мыслится Пушкин.
«Матрёнин двор» не только продолжает русскую литературу, но и буквально ее возрождает. Солженицын поминает (возвращает из небытия) Матрёну вместе с безымянными сказителями и национальными классиками, а история жизни и смерти невидимой праведницы доказывает, что якобы переведенный на «торфопродукт» русский язык по-прежнему остается «великим, могучим, правдивым и свободным».
Дать исчерпывающий список реминисценций русской литературы в «Матрёнином дворе» — задача едва выполнимая. Оборотной стороной их густоты и разнообразия (не присущих прочей малой прозе Солженицына[96]) оказывается их неуловимость и/или случайность. Солженицыну чаще важны не столько обязательные для распознавания отсылки к конкретным текстам (хотя есть и такие случаи), сколько напоминание об общем — едином — языке русской словесности, органично сочетающей национальное и универсальное (всемирное) начала. Это сопряжение особенно ярко выступает в финалах всех трех глав.
Первая — условно говоря, очерковая, портретирующая Матрёну, какой ее видел чуть со стороны рассказчик, — завершается музыкальным эпизодом. Матрёна неприязненно реагирует на шаляпинское исполнение «русских песен» («Чудно поют, не по-нашему ‹…› Не. Не так. Ладу не нашего. И голосом балует»), но растепляется до слез от «камерных романсов Глинки», то есть музыки, принадлежащей высокой культуре, музыке, в которой европейский лад позволяет выявиться национальному духу: «А вот это — по-нашему… — прошептала она» (130).
Душевная тонкость Матрёны, ее эстетическая чуткость и бессознательная включенность в мировую культуру обнаруживаются таким же образом, как у персонажей «Певцов». Жиздринский рядчик, подобно Шаляпину (не только в восприятии Матрёны), «балует голосом», а возникающий в сознании читателя контраст его «высочайшего фальцета» и легендарного шаляпинского баса убеждает в сходстве исполнительских стилей тургеневского персонажа и прославленного артиста: оба работают на краях вокального диапазона, выходят за пределы привычного звукового поля.

Хотя со дня кончины Вадима Эразмовича Вацуро (30 ноября 1935 — 31 января 2000) прошло лишь восемь лет, в области осмысления и популяризации его наследия сделано совсем немало.

Книгу ординарного профессора Национального исследовательского университета – Высшей школы экономики (Факультет филологии) Андрея Немзера составили очерки истории русской словесности конца XVIII–XX вв. Как юношеские беседы Пушкина, Дельвига и Кюхельбекера сказались (или не сказались) в их зрелых свершениях? Кого подразумевал Гоголь под путешественником, похвалившим миргородские бублики? Что думал о легендарном прошлом Лермонтов? Над кем смеялся и чему радовался А. К. Толстой? Почему сегодня так много ставят Островского? Каково место Блока в истории русской поэзии? Почему и как Тынянов пришел к роману «Пушкин» и о чем повествует эта книга? Какие смыслы таятся в названии романа Солженицына «В круге первом»? Это далеко не полный перечень вопросов, на которые пытается ответить автор.
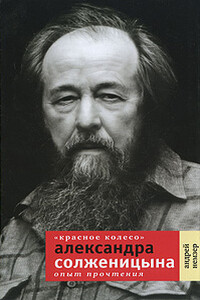
В книге известного критика и историка литературы, профессора кафедры словесности Государственного университета – Высшей школы экономики Андрея Немзера подробно анализируется и интерпретируется заветный труд Александра Солженицына – эпопея «Красное Колесо». Медленно читая все четыре Узла, обращая внимание на особенности поэтики каждого из них, автор стремится не упустить из виду целое завершенного и совершенного солженицынского эпоса. Пристальное внимание уделено композиции, сюжетостроению, системе символических лейтмотивов.

Книгу ординарного профессора Национального исследовательского университета – Высшей школы экономики (Факультет филологии) Андрея Немзера составили очерки истории русской словесности конца XVIII–XX вв. Как юношеские беседы Пушкина, Дельвига и Кюхельбекера сказались (или не сказались) в их зрелых свершениях? Кого подразумевал Гоголь под путешественником, похвалившим миргородские бублики? Что думал о легендарном прошлом Лермонтов? Над кем смеялся и чему радовался А. К. Толстой? Почему сегодня так много ставят Островского? Каково место Блока в истории русской поэзии? Почему и как Тынянов пришел к роману «Пушкин» и о чем повествует эта книга? Какие смыслы таятся в названии романа Солженицына «В круге первом»? Это далеко не полный перечень вопросов, на которые пытается ответить автор.

Новая книга Андрея Немзера – пятая из серии «Дневник читателя», четыре предыдущих тома которой были выпущены издательством «Время» в 2004–2007 годах. Субъективную литературную хронику 2007 года составили рецензии на наиболее приметные книги и журнальные публикации, полемические заметки, статьи о классиках-юбилярах, отчеты о премиальных сюжетах и книжных ярмарках. В завершающем разделе «Круглый год» собраны историко-литературные работы, посвященные поэзии А. К. Толстого и его роману «Князь Серебряный», поэтическому наследию С.

В основе книги - сборник воспоминаний о Исааке Бабеле. Живые свидетельства современников (Лев Славин, Константин Паустовский, Лев Никулин, Леонид Утесов и многие другие) позволяют полнее представить личность замечательного советского писателя, почувствовать его человеческое своеобразие, сложность и яркость его художественного мира. Предисловие Фазиля Искандера.
![Вводное слово : [О докторе филологических наук Михаиле Викторовиче Панове]](/build/oblozhka.dc6e36b8.jpg)
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В. С. Гроссман – один из наиболее известных русских писателей XX века. В довоенные и послевоенные годы он оказался в эпицентре литературных и политических интриг, чудом избежав ареста. В 1961 году рукописи романа «Жизнь и судьба» конфискованы КГБ по распоряжению ЦК КПСС. Четверть века спустя, когда все же вышедшая за границей книга была переведена на европейские языки, пришла мировая слава. Однако интриги в связи с наследием писателя продолжились. Теперь не только советские. Авторы реконструируют биографию писателя, попутно устраняя уже сложившиеся «мифы».При подготовке издания использованы документы Российского государственного архива литературы и искусства, Российского государственного архива социально-политической истории, Центрального архива Федеральной службы безопасности.Книга предназначена историкам, филологам, политологам, журналистам, а также всем интересующимся отечественной историей и литературой XX века.

Книга посвящена анализу поэтики Достоевского в свете разорванности мироощущения писателя между европейским и русским (византийским) способами культурного мышления. Анализируя три произведения великого писателя: «Записки из мертвого дома», «Записки из подполья» и «Преступление и наказание», автор показывает, как Достоевский преодолевает эту разорванность, основывая свой художественный метод на высшей форме иронии – парадоксе. Одновременно, в более широком плане, автор обращает внимание на то, как Достоевский художественно осмысливает конфликт между рациональным («научным», «философским») и художественным («литературным») способами мышления и как отдает в контексте российского культурного универса безусловное предпочтение последнему.

Анну Керн все знают как женщину, вдохновившую «солнце русской поэзии» А. С. Пушкина на один из его шедевров. Она была красавицей своей эпохи, вскружившей голову не одному только Пушкину.До наших дней дошло лишь несколько ее портретов, по которым нам весьма трудно судить о ее красоте. Какой была Анна Керн и как прожила свою жизнь, что в ней было особенного, кроме встречи с Пушкиным, читатель узнает из этой книги. Издание дополнено большим количеством иллюстраций и цитат из воспоминаний самой Керн и ее современников.

Издательство «Фолио», осуществляя выпуск «Малороссийской прозы» Григория Квитки-Основьяненко (1778–1843), одновременно публикует книгу Л. Г. Фризмана «Остроумный Основьяненко», в которой рассматривается жизненный путь и творчество замечательного украинского писателя, драматурга, историка Украины, Харькова с позиций сегодняшнего дня. Это тем более ценно, что последняя монография о Квитке, принадлежащая перу С. Д. Зубкова, появилась более 35 лет назад. Преследуя цель воскресить внимание к наследию основоположника украинской прозы, собирая материал к книге о нем, ученый-литературовед и писатель Леонид Фризман обнаружил в фонде Института литературы им.
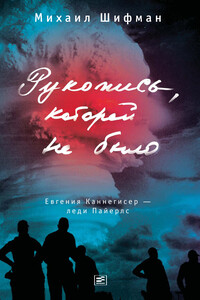
Неизвестные подробности о молодом Ландау, о предвоенной Европе, о том, как начиналась атомная бомба, о будничной жизни в Лос-Аламосе, о великих физиках XX века – все это читатель найдет в «Рукописи». Душа и сердце «джаз-банда» Ландау, Евгения Каннегисер (1908–1986) – Женя в 1931 году вышла замуж за немецкого физика Рудольфа Пайерлса (1907–1995), которому была суждена особая роль в мировой истории. Именно Пайерлс и Отто Фриш написали и отправили Черчиллю в марте 1940 года знаменитый Меморандум о возможности супербомбы, который и запустил англо-американскую атомную программу.

В сборник вошли восемь рассказов современных китайских писателей и восемь — российских. Тема жизни после смерти раскрывается авторами в первую очередь не как переход в мир иной или рассуждения о бессмертии, а как «развернутая метафора обыденной жизни, когда тот или иной роковой поступок или бездействие приводит к смерти — духовной ли, душевной, но частичной смерти. И чем пристальней вглядываешься в мир, который открывают разные по мировоззрению, стилистике, эстетическим пристрастиям произведения, тем больше проступает очевидность переклички, сопряжения двух таких различных культур» (Ирина Барметова)
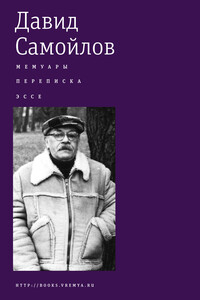
Книга «Давид Самойлов. Мемуары. Переписка. Эссе» продолжает серию изданных «Временем» книг выдающегося русского поэта и мыслителя, 100-летие со дня рождения которого отмечается в 2020 году («Поденные записи» в двух томах, «Памятные записки», «Книга о русской рифме», «Поэмы», «Мне выпало всё», «Счастье ремесла», «Из детства»). Как отмечает во вступительной статье Андрей Немзер, «глубокая внутренняя сосредоточенность истинного поэта не мешает его открытости миру, но прямо ее подразумевает». Самойлов находился в постоянном диалоге с современниками.

Мама любит дочку, дочка – маму. Но почему эта любовь так похожа на военные действия? Почему к дочерней любви часто примешивается раздражение, а материнская любовь, способная на подвиги в форс-мажорных обстоятельствах, бывает невыносима в обычной жизни? Авторы рассказов – известные писатели, художники, психологи – на время утратили свою именитость, заслуги и социальные роли. Здесь они просто дочери и матери. Такие же обиженные, любящие и тоскующие, как все мы.