Проводник в бездну: Повесть - [55]
Гриша оглянулся и скорее услышал, чем увидел, как ползут к бездне испачканные, оборванные, изможденные убийцы. Услышал, как вяло и бессильно перебранивались они между собой, как по-животному хрипели в рыжей мутной трясине.
— Рус! Канал-и-ия… — пьяно пробормотал с дальнего кочкарника рыжий и швырнул в проводника пустой флягой.
Потом опять толстяк поднял руку — мальчик присел. Почти одновременно увидел пламя, услышал выстрел. И будто язычок этого пламени лизнул темя.
Гриша упал. Лихорадочно ощупал себя, пошевелил ногой, другой, вытянул руки. Живой! «Врешь, рыжая сатана, нас не так легко убить!» Приподнялся, собрал все силы, прыгнул в сторону на кочку, потом еще… За большим кочкарем перевел дыхание и опять прыгнул… Затеплилась слабая надежда: может, повезет, может…
— Э-э-э, рус! Ком гир!..[22] Канали-ия… — хрипел гауптман.
— Русишес швайн, ка-пут! — прохрипел и рыжий.
Снова бабахнуло, еще и еще, зафьюитькали пули, пронзая болото.
На мгновение Гриша остановился и услышал совсем близко чье-то тяжелое дыхание. Значит, кто-то из фрицев увязался следом. Значит, увидели, собачьи души, как прыгнул в сторону.
Гриша уже не чувствовал под собой ни кочкарника, ни ржавого болота. Все закружилось вокруг него — хриплые крики рыжего и гауптмана, глухие выстрелы и ракеты в лесу…
Из этого бедлама вдруг донесся запыхавшийся голос:
— Гришья… Их бин Ганс.
Ганс? Какой Ганс? А, тот, что галетами угощал! Зачем он здесь? Ведь все уже тонут в болоте, а он, оказывается, еще не нырнул…
— Айн момент, Гришья, — опять послышался голос Ганса, и его лицо со слабой улыбкой выплыло призраком из темноты…
Вдруг чем-то острым полоснуло Гришу, будто ножом ударило в грудь. Жуткая боль пронзила его тело. И куда-то исчезла, растворилась улыбка Ганса, и начали размываться, исчезать звуки.
Над ним поплыли звезды, опрокинулось небо. Он куда-то стал падать, во что-то мягкое, розовое, горячее… Откуда-то издалека донесся хрип: «Партисан». Но это очень далеко. Будто на Старом Хуторе. Неужели они дошли до Старого Хутора? Гриша хотел подняться, опереться локтем о кочку, но она полетела куда-то вниз, в черную бездну, а с ней полетел и он.
…Вновь вокруг тьма и тишина. Будто утонули в болоте все звуки.
Так длилось недолго. Что-то глухо затахтахкало, такое знакомое и незнакомое. Трепало или автоматная очередь? Что-то ухнуло, и будто зашевелилась болотная постель под ним.
Открыть бы глаза да посмотреть, что там. Но веки так тяжелы, и нет сил раскрыть их…
— Аллес гут, — услышал, — хорошьо…
Неужели так долго задержался возле него Ганс? Разве он не боится наших?
Но что это? Гриша как будто куда-то едет, а лес шумит так знакомо, так хорошо, так сладко. А может, это вовсе и не лес, а человеческие голоса?
И вдруг прорвался знакомый, родной голос:
— Звездочка?.. Покажи… Да это же Гриша Мовчан! Маленький таранивский партизан. Порядок!
Гриша еле-еле раздвинул будто склеенные веки, застонал, попробовал пошевелить руками и не смог — обе руки и грудь в бинтах. Лежал он на душистых елочных ветках. А над ним склонилось знакомое смуглое лицо. И мохнатые брови знакомы Грише, и черные кудри с серебряными нитками. А еще красноватый шрам на левой щеке… Когда-то он знал эти брови, эти черные, но без серебряных ниток кудри, и шрам такой был на левой щеке… Швыдак?! Да неужели Михайло?..
Гриша хотел вымолвить это имя, даже пошевелил языком, но язык почему-то не послушал его.
— Ничего, брат, до свадьбы заживет. — Швыдак провел шершавой ладонью по бледной Гришиной щеке.
И тут мальчик разглядел улыбающееся лицо Ганса. Снова пошевелил губами, еще и выдавил слова:
— Дядя Швыдак… Ганс — хороший…
— Знаем, Гриша, уже знаем, — успокоил командир.
Кто-то подал Швыдаку новую пилотку. Он приколол к ней звездочку, надел пилотку на Гришину голову.
— Ну вот, ты теперь настоящий воин…
— Капитан Швыдак, к полковнику! — позвали.
«Капитан… Уже капитан?»
И только теперь обратил внимание на новую форму, на погоны с четырьмя звездочками. А еще ордена, а еще медали. Вот оно как… А еще увидел над собой озорные монгольские глаза.
— Гриша, а в селе уже наши, — радостно сообщил Митька.
— А… мама?
— Жива-здорова.
— А…
— И Петька, и бабушка живы.
Потом Гришу несли лесом на самодельных носилках из душистых веток.
Рождался новый день.
По обе стороны просеки проплывали торжественные ели, величавые сосны, застенчивые березки. Березки…
Гриша пошевелил губами и то ли прошептал, то ли подумал:
«Здравствуйте, милые березки! Это я, ваш Гриша. Не узнаете? А кто меня надоумил завести врагов туда, откуда уже нет возврата? Я завел… До свидания, березки! Я приду к вам. Выздоровлю и приду, с Митькой. Ждите меня, березки… Конечно поправлюсь. Вон как погнали наши фашистов! Если так и дальше пойдет, то и до победы недолго. Как же это так: победа будет, а меня не будет?»
За веселыми березками полесское небо подпирали могучие дубы, задумчивые и строгие, которые и не собирались сбрасывать на зиму своих красных шуб.
Как вышли из лесу, потянуло пепелищем. Зашевелился на носилках парнишка, хотел подняться, но снова посыпались из глаз искры, зашаталось небо, поплыло все и исчезло. А когда к нему возвратилось сознание (хотя глаза не открывались), услышал:
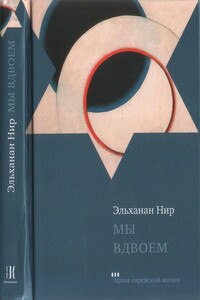
Пристально вглядываясь в себя, в прошлое и настоящее своей семьи, Йонатан Лехави пытается понять причину выпавших на его долю тяжелых испытаний. Подающий надежды в ешиве, он, боясь груза ответственности, бросает обучение и стремится к тихой семейной жизни, хочет стать незаметным. Однако события развиваются помимо его воли, и раз за разом Йонатан оказывается перед новым выбором, пока жизнь, по сути, не возвращает его туда, откуда он когда-то ушел. «Необходимо быть в движении и всегда спрашивать себя, чего ищет душа, чего хочет время, чего хочет Всевышний», — сказал в одном из интервью Эльханан Нир.
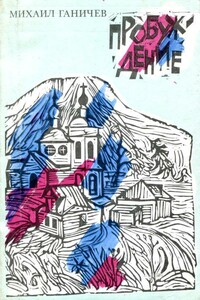
Михаил Ганичев — имя новое в нашей литературе. Его судьба, отразившаяся в повести «Пробуждение», тесно связана с Череповецким металлургическим комбинатом, где он до сих пор работает начальником цеха. Боль за родную русскую землю, за нелегкую жизнь земляков — таков главный лейтмотив произведений писателя с Вологодчины.

Одна из лучших книг года по версии Time и The Washington Post.От автора международного бестселлера «Жена тигра».Пронзительный роман о Диком Западе конца XIX-го века и его призраках.В диких, засушливых землях Аризоны на пороге ХХ века сплетаются две необычных судьбы. Нора уже давно живет в пустыне с мужем и сыновьями и знает об этом суровом крае практически все. Она обладает недюжинной волей и энергией и испугать ее непросто. Однако по стечению обстоятельств она осталась в доме почти без воды с Тоби, ее младшим ребенком.

В сборник вошли рассказы разных лет и жанров. Одни проросли из воспоминаний и дневниковых записей. Другие — проявленные негативы под названием «Жизнь других». Третьи пришли из ниоткуда, прилетели и плюхнулись на листы, как вернувшиеся домой перелетные птицы. Часть рассказов — горькие таблетки, лучше, принимать по одной. Рассказы сборника, как страницы фотоальбома поведают о детстве, взрослении и дружбе, путешествиях и море, испытаниях и потерях. О вере, надежде и о любви во всех ее проявлениях.

Отчаянное желание бывшего солдата из Уэльса Риза Гравенора найти сына, пропавшего в водовороте Второй мировой, приводит его во Францию. Париж лежит в руинах, кругом кровь, замешанная на страданиях тысяч людей. Вряд ли сын сумел выжить в этом аду… Но надежда вспыхивает с новой силой, когда помощь в поисках Ризу предлагает находчивая и храбрая Шарлотта. Захватывающая военная история о мужественных, сильных духом людях, готовых отдать жизнь во имя высоких идеалов и безграничной любви.

Некий писатель пытается воссоздать последний день жизни Самуэля – молодого человека, внезапно погибшего (покончившего с собой?) в автокатастрофе. В рассказах друзей, любимой девушки, родственников и соседей вырисовываются разные грани его личности: любящий внук, бюрократ поневоле, преданный друг, нелепый позер, влюбленный, готовый на все ради своей девушки… Что же остается от всех наших мимолетных воспоминаний? И что скрывается за тем, чего мы не помним? Это роман о любви и дружбе, предательстве и насилии, горе от потери близкого человека и одиночестве, о быстротечности времени и свойствах нашей памяти. Юнас Хассен Кемири (р.

В книгу вошли две повести «Птицы летают без компаса» и «В небе дорог много». Обе посвящены летчикам, охраняющим дальневосточное небо. В них автор поднимает важные проблемы обучения и воспитания молодых пилотов, морального права быть ведущим; показывает, как в трудных повседневных буднях под влиянием чутких заботливых командиров закаляются и мужают характеры вчерашних выпускников военных училищ, растет их летное и боевое мастерство.

Михаил Касаткин - писатель фронтового поколения, удостоенный многих правительственных наград. Эту книгу он посвящает детям и подросткам, помогавшим взрослым бороться с фашистскими оккупантами в годы Великой Отечественной войны.

В годы Великой Отечественной войны Ольга Тимофеевна Голубева-Терес была вначале мастером по электрооборудованию, а затем — штурманом на самолете По-2 в прославленном 46-м гвардейским орденов Красного Знамени и Суворова III степени Таманском ночных бомбардировщиков женском авиаполку. В своей книге она рассказывает о подвигах однополчан.
