Проводник в бездну: Повесть - [4]
— Сбреши что-нибудь, Иван!
— Некогда. По лес надо ехать. Нашей бригаде выделили. На новые хаты. Насилу выклянчили. Нужно ехать, чтобы другие не подобрали. Вот таким кандибобером…
И спешил прочь под недовольный ропот:
— С какой это стати твоей бригаде? Чем она лучше других?
— Не знаю, у председателя спросите, — отмахивался на ходу, хлопая по голенищам кнутом. — На правлении так решили.
Повалили мужики гурьбой к председателю. Вваливаются к нему в кабинет:
— Значит, для любимчиков и лес есть?
— Каких любимчиков? Какой лес? — хлопает глазами председатель.
— Вон бригада Мовчана уже поехала. Конечно, Ивану, дружку твоему, нужна новая хата. А нам?!
— Какая хата?
— Не притворяйся! Выходит, одни у тебя сынки, другие — пасынки?
Председатель встает из-за стола, сводит косматые брови на переносице.
— Вы, сябры,[1] толком говорите!
— А что говорить. Правление выделило лес Мовчану? А нам?..
Упав на стул, председатель хохочет до слез.
— А чтоб ты был здоров, Иван, брехун, базарный коновал… Кандибобер ты несчастный.
На выдумки Ивана Мовчана люди не обижались, не отвечали злобой. Потому что, пошутив над человеком, Иван и уважал его, любил и в обиду не давал.
Где именины, где крестины, где свадьба — разве обойдется без Гришиного отца? На всю Таранивку шутник и балагур Иван Мовчан, или Кандибобер, как дразнили его за поговорку: «Вот так, вот таким кандибобером…»
А песни любил грустные, трогательные. Запоет, и не у одной молодки слеза навернется.
Частенько на гулянках просят отца: «Спой, Иване, про братика и сестричку».
И как бы ни было шумно, стихают голоса, а самых неугомонных, разбушевавшихся гостей женщины кулаками под бока: «Слушай, вон Иван сейчас про травицу, что с братиком сестрица».
Отец негромко заводит песню о том, как в Киеве на рынке разгулявшиеся чумаки подзывают шинкарку и опять требуют у нее медовухи.
Длинная эта песня. Чумак потом женится на дочери шинкарки, у него же денег «жбан». А после венчания молодые узнают, что они родные брат и сестра. И проклинают попа, который повенчал сестру и брата.
Плакали люди, когда отец тихим и чистым голосом выводил:
Почитание и любовь людскую завоевывал Гришин отец трудом и честностью, а не хитростью, как некоторые. В районной газете о нем писали — ведь бригадир Мовчан привез из Москвы, с выставки сельскохозяйственной, медаль. Когда Гриша, бывало, захворает, мама укладывает его на теплую печь, подает ему туда моченые яблоки, отцовы часы и отцову медаль с выставки.
Часы отец купил на заработках. Бабушка рассказывала, что он ездил «на Домбасс». Когда Гриша пошел в школу, только тогда и узнал, что Донбасс — это Донецкий угольный бассейн. Из «Домбасса» отец привез кроме больших карманных часов еще и метинки на всю жизнь — крапинки угля, въевшиеся в кожу лица, шеи, рук.
— Я меченый, — шутил отец.
Спрашивала мама, когда уходил на войну:
— Почему же часы не берешь с собой?
— Меня, Марина, пули будут будить. Чтобы не проспал царства небесного.
— Не ко времени шутишь, Иван.
— Теперь не угадаешь, когда ко времени, — вздохнул. И тут же сказал: — Ничего, не беспокойтесь. Жив буду — не помру.
— Оно, сынок, как кому на роду написано, — качала головой бабуся. — Один все моря выбродит, побывает на коне и под конем, в геенне огненной, прости господи, а домой вернется без единой царапины…
Отец, однако, не все моря выбродил, а домой уже никогда не вернется. Но память по себе оставил он добрую. Не один, узнав о его похоронной, склонит голову, вздохнет и скажет:
— Пусть земля тебе будет пухом, Иван! Любил ты ее, землю, твердо стоял на ней, хотел, чтобы лучше стала.
То — правда. Частенько будил он Гришу на рассвете и шептал:
— Поедем, сынок, в поле, в лес поедем…
Брал его на руки полусонного и сажал в свою бригадирскую бричку, а когда выезжали в раннее поле, тормошил Гришу и показывал на восходящее солнце:
— Смотри, сын, такого больше не увидишь.
— Мы же с вами такое уже видели, — возражал Гриша.
Отец улыбался:
— Нет, сын, то было другое утро. Одинакового утра не бывает, как не бывает ни одинаковых людей, ни деревьев, ни цветов…
И влюбленными глазами оглядывал пшеницу.
— Озимые начинают звенеть.
Звенеть — значит хорошо взошли, перезимовали и весной, щедрой на теплые дожди и на солнце, рванулись в рост.
Отзвенев, волнами заходила рожь. И снова легкий вздох отца — хлебороба, для которого ничего в жизни не может быть более святого, чем пахать, сеять, молотить.
— Скоро, сын, жатва.
Сам любил жатву и хотел, чтобы и сын полюбил это удивительное время года с розовыми рассветами и короткими ночами.
…Они с мамой возят снопы к молотилке, а бригадир Иван Мовчан поднимается к барабану. Над молотилкой стоит золотистое облако. Вот подъехали они с мамой к машине, вот он уже видит выцветшую сорочку бати-барабанщика. Батя на минуту оглядывается, кивает им, усмехается. В защитных очках, весь в пыли. И снова подхватывает сноп, бросает его в пасть барабана. Барабан люто щелкает зубами, пережевывая солому… А когда, чихнув, останавливался утомившийся паровик, усаживались под скирдой. Умытый, посвежевший от холодной воды, батька хитро подмигивал Грише: «Поборемся?» И они боролись в душистой соломе, пока мама притворно строго не выговаривала:

Проснувшись рано утром Том Андерс осознал, что его жизнь – это всего-лишь иллюзия. Вокруг пустые, незнакомые лица, а грань между сном и реальностью окончательно размыта. Он пытается вспомнить самого себя, старается найти дорогу домой, но все сильнее проваливается в пучину безысходности и абсурда.
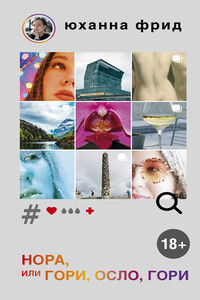
Когда твой парень общается со своей бывшей, интеллектуальной красоткой, звездой Инстаграма и тонкой столичной штучкой, – как здесь не ревновать? Вот Юханна и ревнует. Не спит ночами, просматривает фотографии Норы, закатывает Эмилю громкие скандалы. И отравляет, отравляет себя и свои отношения. Да и все вокруг тоже. «Гори, Осло, гори» – автобиографический роман молодой шведской писательницы о любовном треугольнике между тремя людьми и тремя скандинавскими столицами: Юханной из Стокгольма, Эмилем из Копенгагена и Норой из Осло.

Книга посвящается 60-летию вооруженного народного восстания в Болгарии в сентябре 1923 года. В произведениях известного болгарского писателя повествуется о видных деятелях мирового коммунистического движения Георгии Димитрове и Василе Коларове, командирах повстанческих отрядов Георгии Дамянове и Христо Михайлове, о героях-повстанцах, представителях различных слоев болгарского народа, объединившихся в борьбе против монархического гнета, за установление народной власти. Автор раскрывает богатые боевые и революционные традиции болгарского народа, показывает преемственность поколений болгарских революционеров. Книга представит интерес для широкого круга читателей.

Французская романистка Карин Тюиль, выпустившая более десяти успешных книг, стала по-настоящему знаменитой с выходом в 2019 году романа «Дела человеческие», в центре которого громкий судебный процесс об изнасиловании и «серой зоне» согласия. На наших глазах расстается блестящая парижская пара – популярный телеведущий, любимец публики Жан Фарель и его жена Клер, известная журналистка, отстаивающая права женщин. Надлом происходит и в другой семье: лицейский преподаватель Адам Визман теряет голову от любви к Клер, отвечающей ему взаимностью.
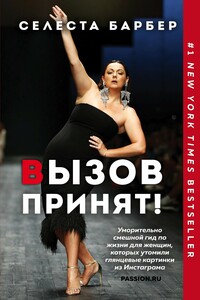
Селеста Барбер – актриса и комик из Австралии. Несколько лет назад она начала публиковать в своем инстаграм-аккаунте пародии на инста-див и фешен-съемки, где девушки с идеальными телами сидят в претенциозных позах, артистично изгибаются или непринужденно пьют утренний смузи в одном белье. Нужно сказать, что Селеста родила двоих детей и размер ее одежды совсем не S. За восемнадцать месяцев количество ее подписчиков выросло до 3 миллионов. Она стала живым воплощением той женской части инстаграма, что наблюдает за глянцевыми картинками со смесью скепсиса, зависти и восхищения, – то есть большинства женщин, у которых слишком много забот, чтобы с непринужденным видом жевать лист органического салата или медитировать на морском побережье с укладкой и макияжем.
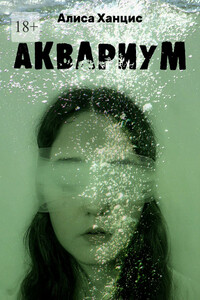
Апрель девяносто первого. После смерти родителей студент консерватории Тео становится опекуном своего младшего брата и сестры. Спустя десять лет все трое по-прежнему тесно привязаны друг к другу сложными и порой мучительными узами. Когда один из них испытывает творческий кризис, остальные пытаются ему помочь. Невинная детская игра, перенесенная в плоскость взрослых тем, грозит обернуться трагедией, но брат и сестра готовы на всё, чтобы вернуть близкому человеку вдохновение.

В книгу вошли две повести «Птицы летают без компаса» и «В небе дорог много». Обе посвящены летчикам, охраняющим дальневосточное небо. В них автор поднимает важные проблемы обучения и воспитания молодых пилотов, морального права быть ведущим; показывает, как в трудных повседневных буднях под влиянием чутких заботливых командиров закаляются и мужают характеры вчерашних выпускников военных училищ, растет их летное и боевое мастерство.

Михаил Касаткин - писатель фронтового поколения, удостоенный многих правительственных наград. Эту книгу он посвящает детям и подросткам, помогавшим взрослым бороться с фашистскими оккупантами в годы Великой Отечественной войны.

В годы Великой Отечественной войны Ольга Тимофеевна Голубева-Терес была вначале мастером по электрооборудованию, а затем — штурманом на самолете По-2 в прославленном 46-м гвардейским орденов Красного Знамени и Суворова III степени Таманском ночных бомбардировщиков женском авиаполку. В своей книге она рассказывает о подвигах однополчан.
