Протяжение точки - [10]
С чертежами наибольшая трудность; Московия в самом деле есть мир в известном смысле водный — бескрайний, зыбкий, не только не размеченный регулярно, но, кажется, отторгающий саму идею такой разметки. От края и до края России волна за волной встают безмолвные громады лесов: диких, непроходимых, нечесаных человечьим взглядом; к югу проливается степь, истребляемая солнцем, оканчиваемая либо степью еще большей, либо оскаленными зубьями южных гор. Пасть, бездна, пропасть мира — в ней тонет человек, которому нельзя и помыслить о внятном пространстве, потому что, осмысленное, оно своей счетной бесконечностью затмит его разум, своим избытком разнесет ему голову на мелкие части (числа). Непомерно велико русское море, в глубине которого смежила глаз светящая красным, золотым и синим, расплеснутая по неровному дну невидимая звезда Москвы.
Отъехав от столицы на три шага, Карамзин уже скучает по Москве.
Во всю дорогу не приходило мне в голову ни одной радостной мысли; а на последней станции к Твери грусть моя так усилилась, что я в деревенском трактире, стоя перед карикатурами королевы французской и римского императора, хотел бы, как говорит Шекспир, выплакать сердце свое.
Вот уже пошли карикатуры на Европу. Хорош у нас выходит русский «немец».
Не только путешествие — один шаг из Москвы есть уже умственный и душевный переворот; движение из нее — это сущее протяжение точки.
Предпочтение Москвы и ее способа письма, который способ Карамзин, по идее, хочет изменить в корне, становится скрытой темой его странствия. Он ищет новое русское письмо — и с первого мгновения путешествия выясняется, насколько трудным выйдет это предприятие. Слишком велико притяжение Москвы для русского слова. Удаляясь от нее, Карамзин плачет — его слезы есть уже строки слов, бегущие в Москву.
О ней уже много было написано, будет написано еще больше — неудивительно, если она помещается в центре ментального русского чертежа. Слова клубятся вокруг нее, к ней бегут и от нее отливают. Этот пульс составляет характерную особенность московского языка [12], «оптическую», гравитационную его особенность, которая прежде всего для нашего исследования интересна.
Карамзин постоянно и пристально смотрит на Москву, изучает, препарирует, перестраивает ее язык, понимая, что именно он представляет некоторую квинтэссенцию того, что можно назвать традиционным русским сознанием. Подтверждение этому — от противного — полное отсутствие в его заметках Петербурга. Этот город есть результат встречи Москвы с Европой; он уже достаточно осмыслен — он сам готов себя наблюдать и осмыслять. Другое дело Москва: для «немца» Карамзина она, как вечная загадка, так же, вечно будет интересна.
И вот результат: Николай Михайлович едет через Петербург и в нем замечает только своего приятеля, у которого останавливается. Тот в бедственном положении: ничего удивительного — это как раз петербургское положение. Описывать его странник не желает. По Москве, едва оставленной, он проливает целую повесть слез. При мысли о Петербурге его глаза сухи: нечего и писать о нем.
VII
Он мчится далее, на запад. Вот следующее его, весьма показательное приключение.
Карамзин покидает Петербург, видимый, но не удостоенный ни слова [13], и вступает далее в прибалтийские пределы.
Его встречает плоская, обведенная сизым горизонтом долина; провожатыми из России выступают: грязь, дождь, дороговизна и дорожные снаряды, словно намеренно изломанные. Он проезжает Нарву — …нигде не было мне так горько, как в Нарве… …Кибитку дали мне негодную, лошадей скверных. Лишь только отъехали с полверсты, переломилась ось: кибитка упала в грязь, и я с нею.
Таковы русские проводы! Такова награда за честность, буквальность в применении отвлеченного метода. Карамзин, окрыленный «пространственной» идеей, отправляется за русский предел и на этом пределе застревает! Вот первая точка на его заграничном пути поставлена: он валится в нее как в прорубь.
Нет, неточно: здесь проходит не настоящая, но бывшая, старинная московская граница, которую царь Петр отодвинул далеко на запад. Тогда тем более это важно! Карамзин не различает град Петров, зато замечает под собой невидимую границу Московии. Здесь настигает его прощальное приключение. Так в реальных обстоятельствах времени и места, посреди омываемой дождем чухонской равнины, продолжается обновление его скрытой московской «оптики».
Его мысль начинает раздвижение (болезненное, сопровождаемое поминутно стыдом за прелести милой отчизны); воображение широко шагает — с этого предела в новые, внешние — неведомые, сверх-московские просторы.
На нарвском пределе было испытано патриотическое чувство странника. Явился, точно водный дух, из струй проливного дождя какой-то полицейский чин (допустим, из нынешних времен — гаишник) и потребовал отвезти кибитку подальше от дороги, дабы не мешала она свободному движению. С переломанной-то осью! Спрячь ее себе в карман! — отвечает ему Николай Михайлович и только заворачивается плотнее в мокрую насквозь рогожу. Можно ли сегодня так отвечать гаишнику?
В это мгновение Карамзин проклинает свое начинание, вспоминает дом с готическим окном и друзей, среди которых более всего теперь хотел бы оказаться. И вдруг — как не считать после этого даже случайности его странствия явлениями закономерными? — к нему подходит незнакомый мальчик и по-немецки ласково его приветствует. И приглашает в соседний дом, за стол, где сидит за трапезой немецкая семья, где всякое лицо излучает добродушное участие.
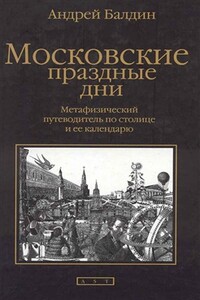
Литература, посвященная метафизике Москвы, начинается. Странно: метафизика, например, Петербурга — это уже целый корпус книг и эссе, особая часть которого — метафизическое краеведение. Между тем “петербурговедение” — слово ясное: знание города Петра; святого Петра; камня. А “москвоведение”? — знание Москвы, и только: имя города необъяснимо. Это как если бы в слове “астрономия” мы знали лишь значение второго корня. Получилась бы наука поименованья астр — красивая, японистая садоводческая дисциплина. Москвоведение — веденье неведомого, говорение о несказуемом, наука некой тайны.

Очерк о путешествии архитектора к центру сборки романа «Война и мир». Автор в самом начале вычерчивает упорядоченный смысл толстовской эпопеи — и едет за подтверждением в имение писателя. Но вместо порядка находит хаос: усадьбу без наследного дома. И весь роман предстает «фокусом», одним мигом, вместившим всю историю семьи, «воцелением времени», центровым зданием, построенным на месте утраченного дома.

Русский серебряный век, славный век расцвета искусств, глоток свободы накануне удушья… А какие тогда были женщины! Красота, одаренность, дерзость, непредсказуемость! Их вы встретите на страницах этой книги — Людмилу Вилькину и Нину Покровскую, Надежду Львову и Аделину Адалис, Зинаиду Гиппиус и Черубину де Габриак, Марину Цветаеву и Анну Ахматову, Софью Волконскую и Ларису Рейснер. Инессу Арманд и Майю Кудашеву-Роллан, Саломею Андронникову и Марию Андрееву, Лилю Брик, Ариадну Скрябину, Марию Скобцеву… Они были творцы и музы и героини…Что за характеры! Среди эпитетов в их описаниях и в их самоопределениях то и дело мелькает одно нежданное слово — стальные.

Эта книга – результат долгого, трудоемкого, но захватывающего исследования самых ярких, известных и красивых любовей XX века. Чрезвычайно сложно было выбрать «победителей», так что данное издание наиболее субъективная книга из серии-бестселлера «Кумиры. Истории Великой Любви». Никого из них не ждали серые будни, быт, мещанские мелкие ссоры и приевшийся брак. Но всего остального было чересчур: страсть, ревность, измены, самоубийства, признания… XX век начался и закончился очень трагично, как и его самые лучшие истории любви.

«В Тургеневе прежде всего хотелось схватить своеобразные черты писательской души. Он был едва ли не единственным русским человеком, в котором вы (особенно если вы сами писатель) видели всегда художника-европейца, живущего известными идеалами мыслителя и наблюдателя, а не русского, находящегося на службе, или занятого делами, или же занятого теми или иными сословными, хозяйственными и светскими интересами. Сколько есть писателей с дарованием, которых много образованных людей в обществе знавали вовсе не как романистов, драматургов, поэтов, а совсем в других качествах…».
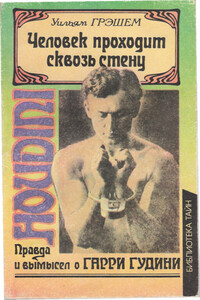
Об этом удивительном человеке отечественный читатель знает лишь по роману Э. Доктороу «Рэгтайм». Между тем о Гарри Гудини (настоящее имя иллюзиониста Эрих Вайс) написана целая библиотека книг, и феномен его таланта не разгадан до сих пор.В книге использованы совершенно неизвестные нашему читателю материалы, проливающие свет на загадку Гудини, который мог по свидетельству очевидцев, проходить даже сквозь бетонные стены тюремной камеры.

Сегодня — 22 февраля 2012 года — американскому сенатору Эдварду Кеннеди исполнилось бы 80 лет. В честь этой даты я решила все же вывесить общий файл моего труда о Кеннеди. Этот вариант более полный, чем тот, что был опубликован в журнале «Кириллица». Ну, а фотографии можно посмотреть в разделе «Клан Кеннеди», где документальный роман был вывешен по главам.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.