Простодушное чтение - [14]
Сдвиг на полтона вверх – пепел, зола.
Сдвиг на полтона вниз – пепел, зола.
Тень слева, тень справа.
Шум слева, шум справа.
Мука героя – вот этот процесс выбраживания в нем музыки, дозревание до безошибочности жеста. Она изводит его, как физическая слабость. Как похмельное бессилие.
Молчи.
Закрой рот и молчи.
Это утро или вечер?
Где я нахожусь?
Что я здесь делаю?
Почему я на полу?
Почему штаны мокрые?
Стены, окно, потолок.
Потолок, стены, окно.
Георгий спрашивает, не нуждаюсь ли я в помощи.
Спасибо, не нуждаюсь.
И в конце повествования по законам композиции музыкального произведения тема, сгущаясь и набирая изнутри силу, наконец оформляется, воплощается – нажитая героем музыка ложится на партитуру. Цикл завершен. Наступает тишина.
Георгий пылесосит квартиру, Моника на работе, дождь моросит за окном.
Дождь в Берлине, дождь в Москве, дождь в Афанасово.
Мир соединился. Даже несмотря на то, что герою сообщили, что учитель и друг его умер.
…его уже нет.
Только что сообщили.
Стены, окно, потолок.
Потолок, стены, окно.
Все уходит в высокий регистр, но тут же резко обрывается, и наступает гробовая тишина.
Что-то сделал.
Все же что-то сделал, флейту купил, уже дома.
Стены, окно, потолок.
Потолок, стены, окно.
Гудит и воет ветер за замерзшим окном.
Снова приснилось, что мы встретились там и обнялись, и мне стало так легко, как, наверное, никогда в жизни.
Меня сейчас не смущает, что я вынужден передразнивать Гаврилова, подробно пересказывая его сюжет, вместо того, чтобы дать несколько коротких внятных формулировок, как принято в критике: «поток сознания», «имитация интуитивного письма», «добычинский минимализм», «экспрессивность» ну и проч. Но и эти все формулировки будут здесь, на самом деле, метафорами, только с претензиями на некую универсальность. Поэтому я лучше выступлю в роли непосредственного читателя, пересказывающего прочитанное. Большого урона тексту Гаврилова это принести не сможет. Это необыкновенно емкая проза; емкая в том смысле, что почти каждый читающий прочитает в ней про свое, и это «свое» там наверняка будет присутствовать.
Может показаться, что сделанное Гавриловым в этой прозе – необыкновенно просто. Кажется, что прием его легко будет повторить. И может быть, действительно – легко. Точнее, легче, чем самому родить вот эту форму. Так же легко, как было последователям Брака и Пикассо 20-х. И жуликоватые потомки одаренных эпигонов Пикассо приносили кубистические композиции своих дедушек к уже старому Пикассо и просили авторизовать холсты для аукциона, а Пикассо чесал лысину и говорил: «А кто его знает, это очень похоже на то, что я делал тогда. Может, и правда – мое», – и со спокойной совестью ставил на холсте подпись.
Но не думаю, чтобы это было на самом деле легко. Могу только предположить наличие эпигонов. А сделать то, что делает в этой прозе Гаврилов, как мне кажется, трудно невероятно.
Он возвращает слову его вес. Плотность, глубину, богатство смыслов и их оттенков, запах и цвет. Листья у него – это листья. Луна – это луна. Во всем объеме обозначенного словом образа и понятия. Гаврилову достаточно самых простых эпитетов («…дерево за окном зеленое, штора зеленая, занавеска с люрексом, стол белый, кресло черное, вино красное»). Да он, собственно, и без эпитетов обходится. Ему не нужно подробно прописывать слово, чтобы оживить его. Эмоциональное напряжение, созданное им в тексте, само оживляет слово.
Потому так скупа внешне проза «Флейты». И потому так приближена в обращении со словом, с повтором, с интонацией – к поэзии.
… И в заключение – личное признание: «Берлинская флейта» – один из самых замечательных художественных текстов, которые я прочитал за последние лет пять.
Приручение времени
Михаил Бутов. В карьере // «Новый мир», 2002, № 7
Сегодняшний читатель по большей части имеет дело с литературными полуфабрикатами. С литературными проектами. Проза законченная по нынешним временам – редкость. Согласен, читать литературу, находящуюся еще в стадии брожения, по-своему интересно. Особенно – литературному критику. Критик оказывается в очень выгодном положении. Писатель дает ему контуры своего сочинения, предоставляя возможность остальное достроить самому и, соответственно, по праву считать себя главным человеком в литературе. А дело это – выстраивать образ литературного произведения и вообще современной литературы – азартное. Одна беда – то, ради чего мы, собственно, и читаем литературу – не как критики читаем, а как читатели – вот эта, находящаяся в стадии перманентного брожения, литература, почти не дает. Не дает возможности проживать в эстетическом пространстве собственно жизнь. Я понимаю, что о литературе, конечно, поговорить интересно, но ведь и о жизни тоже хочется. А законченные, выбродившие до кондиции чистого продукта литературные произведения, читая которые, мы забываем про литературу, появляются редко. Вот к такой законченной прозе и относится, на мой взгляд, новый рассказ Михаила Бутова «В карьере».
Перед нами очень «просто» написанный рассказ как бы ни про что – про то, как отец и маленький сын приезжают на заброшенный подмосковный карьер искать белемниты, аммониты и прочие окаменелости; ходят по заросшим травой отвалам; отец вспоминает, как во времена перестройки зарабатывал продажей за границу собранных здесь камней; мальчик теребит отца, куксится, радуется находкам, оба устают от жары и неподвижности вокруг и начинают обратный путь к спрятанной в траве машине. Здесь ставится точка.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Путешествия по Тунису, Польше, Испании, Египту и ряду других стран — об этом путевая проза известного критика и прозаика Сергея Костырко, имеющего «долгий опыт» невыездной советской жизни. Каир, Барселона, Краков, Иерусалим, Танжер, Карфаген — эти слова обозначали для него, как и для многих сограждан, только некие историко-культурные понятия. Потому столь эмоционально острым оказался для автора сам процесс обретения этими словами географической — физической и метафизической — реальности. А также — возможность на личном опыте убедиться в том, что путешествия не только расширяют горизонты мира, но и углубляют взгляд на собственную культуру.

«Медленная», то есть по мере проживания двухтысячных писавшаяся, проза – попытка изобразить то, какими увидели мы себя в зеркале наступивших времен: рассказы про благополучного клерка, который вдруг оказывается бездомным бродягой и начинает жизнь заново, с изумлением наблюдая за самим собой; про крымскую курортную негу, которая неожиданно для повествователя выворачивается наизнанку, заставляя его пережить чуть ли ни предсмертную истому; про жизнь обитателей обычного московского двора, картинки которой вдруг начинают походить на прохудившийся холст, и из черных трещин этого холста протягивают сквозняки неведомой – пугающей и завораживающей – реальности; про ночную гостиничную девушку и ее странноватого клиента, вместе выясняющих, что же такое на самом деле с ними происходит; и другие рассказы.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

«Спасибо, господа. Я очень рад, что мы с вами увиделись, потому что судьба Вертинского, как никакая другая судьба, нам напоминает о невозможности и трагической ненужности отъезда. Может быть, это как раз самый горький урок, который он нам преподнес. Как мы знаем, Вертинский ненавидел советскую власть ровно до отъезда и после возвращения. Все остальное время он ее любил. Может быть, это оптимальный модус для поэта: жить здесь и все здесь ненавидеть. Это дает очень сильный лирический разрыв, лирическое напряжение…».

«Я никогда еще не приступал к предмету изложения с такой робостью, поскольку тема звучит уж очень кощунственно. Страхом любого исследователя именно перед кощунственностью формулировки можно объяснить ее сравнительную малоизученность. Здесь можно, пожалуй, сослаться на одного Борхеса, который, и то чрезвычайно осторожно, намекнул, что в мировой литературе существуют всего три сюжета, точнее, он выделил четыре, но заметил, что один из них, в сущности, вариация другого. Два сюжета известны нам из литературы ветхозаветной и дохристианской – это сюжет о странствиях хитреца и об осаде города; в основании каждой сколько-нибудь значительной культуры эти два сюжета лежат обязательно…».
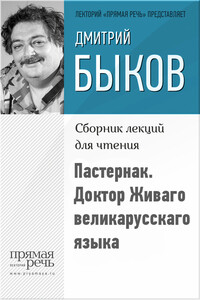
«Сегодняшняя наша ситуация довольно сложна: одна лекция о Пастернаке у нас уже была, и второй раз рассказывать про «Доктора…» – не то, чтобы мне было неинтересно, а, наверное, и вам не очень это нужно, поскольку многие лица в зале я узнаю. Следовательно, мы можем поговорить на выбор о нескольких вещах. Так случилось, что большая часть моей жизни прошла в непосредственном общении с текстами Пастернака и в писании книги о нем, и в рассказах о нем, и в преподавании его в школе, поэтому говорить-то я могу, в принципе, о любом его этапе, о любом его периоде – их было несколько и все они очень разные…».

«Ильф и Петров в последнее время ушли из активного читательского обихода, как мне кажется, по двум причинам. Первая – старшему поколению они известны наизусть, а книги, известные наизусть, мы перечитываем неохотно. По этой же причине мы редко перечитываем, например, «Евгения Онегина» во взрослом возрасте – и его содержание от нас совершенно ускользает, потому что понято оно может быть только людьми за двадцать, как и автор. Что касается Ильфа и Петрова, то перечитывать их под новым углом в постсоветской реальности бывает особенно полезно.
