Прощание с ангелами - [14]
«Прекрасный ковер. Таких мохнатых я еще не видел. Из Чирпана».
Он встал. Скованно, стараясь выдавить из себя улыбку, попрощался с Костовой, которая тоже постаралась улыбнуться.
Костов проводил его до дверей.
— На добир путь, — сказал он. — Счастливого пути.
Франц сел на двадцать четвертый, у собора пересел на семнадцатый, но поехал не до конца, не до западной границы города, а вылез тремя остановками раньше, пробежал через Английский сад, мимо зоопарка, сделал все возможное, чтобы выиграть время, и уже час спустя очутился перед красным кирпичным зданием Камиллианской больницы, так и не решив для себя вопрос, следует ли ему прямо в лицо отцу выпалить: «Мать живет с Гансом». Это привело бы к решению. Значит, указало бы и выход. Наверняка даже. Поскольку тогда делать что-то пришлось бы отцу, а не ему, Францу, чего он до смерти боялся. Торопливо, почти бегом промчался Франц мимо бокового крыла больницы к расположенному севернее хозяйственному корпусу.
Людвиг Гошель устроил свою мастерскую в нижнем этаже, за занавеской у него была спальня, она же молельная, где только и было мебели, что жесткая кровать да стул, выскобленный добела стол да распятие.
Только это и было потребно Людвигу Гошелю, если прибавить сюда воспоминания, чтобы он мог жить, подбивая подметки святым отцам, всем довольный, дурачок во Христе, как сострил зять Ганс, и его острота, несомненно, достигла ушей отца, вызвав в ответ лишь улыбку с высоты воспоминаний и знания, что и ему здесь, и другим людям нечего ожидать, кроме смерти.
Людвиг Гошель сидел на треногой табуретке. Он не поднял глаз от работы, когда вошел Франц. Тех, кто приходил к нему, он узнавал по обуви: патера Обера — по стоптанным черным полуботинкам, патера Доминика — по сандалиям, коричневым, узким, всегда до блеска начищенным. А кроме святых отцов, к нему в мастерскую почти никто не заглядывал. Франц — изредка. Анна не была вот уже полгода.
Франц сел на табуретку по другую сторону стола, сидел молча, как и старик — тот взял за зеленый козырек висящую над столом лампу и притянул ее поближе к себе.
Франц ощутил во рту привкус глины, кожи и сапожного вара.
На небольшом столе горой громоздились мужские башмаки. Посредине на деревянном бруске стояла бутылка в виде мадонны. Сувенир из Лурда, его привезла оттуда мать.
«Твой старик либо глуп, либо один из немногих мудрецов двадцатого века, можешь выбрать, что тебе больше нравится».
У Берто всегда в запасе набор таких оценок, острых как нож. А Франц тогда рассердился на себя за то, что вообще завел речь об отца. Поддался настроению. Эта ночь в комнате Вернера, распахнутое окно, в которое видны могилы на Северном кладбище, безвкусная лампа из бутылки шотландского виски с красным абажуром — круг света посреди темной, ночной комнаты. Берто любил создавать обстановку, когда ему припадала охота пофилософствовать. Но какое дело Берто до его отца? Франц пытался смягчить, представить уход отца, без сомнения несколько странный, как некоторую форму усталости от жизни, причуду, запоздалый расцвет пилигримской философии, как нечто преходящее. Но Вернер раскусил его, заметил, что за всеми словами друга скрывается лишь одно чувство — стыд за отца.
«Кончай адвокатствовать, служка. По сути дела, безразлично, как живет человек: как миллионер или как золотарь, лишь бы он сознавал, что это безразлично. Истинный образ жизни состоит в предельном безразличии».
Франц наблюдал отца, пристально разглядывал, как тот сидит на своем табурете, как втыкает изогнутую щетину в провернутые шилом дырки, смотрел, как горбится, как подносит ботинок к близоруким слезящимся глазам, рот слегка приоткрыт, нижняя губа отвисла. В лице смещалось добродушие и скудоумие.
Дурачок или мудрец? Франц не понимал, как этот человек, который был двадцатью тремя годами старше своей жены, а фотографировался с ней только на ступенях лестницы, чтобы казаться одного роста, как этот человек мог или, точнее, как мать могла за него выйти.
— Как поживает мать? — спросил Людвиг, не поднимая глаз, и снова принялся сверлить шилом дырки в коже — сперва легко, потом с нажимом.
Вечно один и тот же вопрос, словно весь его словарный запас свелся к этим трем словам: как-поживает-мать.
Франц следил за рукой отца, костлявой, с длинными пальцами, на дряблой коже — желтые пятна. Должно быть, отец что-то знает, подумалось ему. Не мог он без всякой причины бросить все, забиться в эту полутемную конуру и только спрашивать: «Как поживает мать?» Словно ни до чего в мире ему больше нет дела.
— Отец, — сказал Франц.
Но старик сидел все так же, не разгибая спины. И только рукой поводил по воздуху — короткое движение, потом длинное, — сучил дратву.
Не имеет смысла, подумал Франц, ну о чем я буду с ним говорить? Но вдруг вскочил и яростно вырвал у старика ботинок из рук.
— Почему ты ушел? Выставил на посмешище и себя и всех нас!
Вот теперь, подумалось Францу, вот теперь он должен ответить. «Как поживает мать» больше не пройдет. Вопрос на вопрос, ответ на ответ.
Старик встал, поднял ботинок, включил шлифовальное колесо и принялся обрабатывать край подметки. Стоял возле машины, натянув подтяжками замызганные плисовые штаны почти до груди, в стоптанных шлепанцах, стоял, прижимая подметку к вращающемуся камню. Потом он вернулся на свое место, взял брусок красного воска, лежащий подле мадонны.

Россия, наши дни. С началом пандемии в тихом провинциальном Шахтинске создается партия антиваксеров, которая завладевает умами горожан и успешно противостоит массовой вакцинации. Но главный редактор местной газеты Бабушкин придумывает, как переломить ситуацию, и антиваксеры стремительно начинают терять свое влияние. В ответ руководство партии решает отомстить редактору, и он погибает в ходе операции отмщения. А оказавшийся случайно в центре событий незадачливый убийца Бабушкина, безработный пьяница Олег Кузнецов, тоже должен умереть.

Ремонт загородного домика, купленного автором для семейного отдыха на природе, становится сюжетной канвой для прекрасно написанного эссе о природе и наших отношениях с ней. На прилегающем участке, а также в стенах, полу и потолке старого коттеджа рассказчица встречает множество животных: пчел, муравьев, лис, белок, дроздов, барсуков и многих других – всех тех, для кого это место является домом. Эти встречи заставляют автора задуматься о роли животных в нашем мире. Нина Бёртон, поэтесса и писатель, лауреат Августовской премии 2016 года за лучшее нон-фикшен-произведение, сплетает в едином повествовании научные факты и личные наблюдения, чтобы заставить читателей увидеть жизнь в ее многочисленных проявлениях. В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.
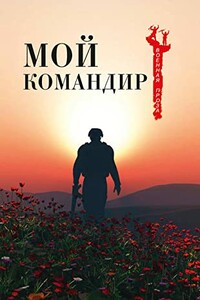
В этой книге собраны рассказы о боевых буднях иранских солдат и офицеров в период Ирано-иракской войны (1980—1988). Тяжёлые бои идут на многих участках фронта, враг силён, но иранцы каждый день проявляют отвагу и героизм, защищая свою родину.
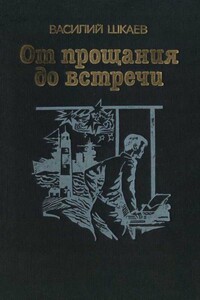
В книгу вошли повести и рассказы о Великой Отечественной войне, о том, как сложились судьбы героев в мирное время. Автор рассказывает о битве под Москвой, обороне Таллина, о боях на Карельском перешейке.

В повести «Ана Ананас» показан Гамбург, каким я его запомнил лучше всего. Я увидел Репербан задолго до того, как там появились кофейни и бургер-кинги. Девочка, которую зовут Ана Ананас, существует на самом деле. Сейчас ей должно быть около тридцати, она работает в службе для бездомных. Она часто жалуется, что мифы старого Гамбурга портятся, как открытая банка селёдки. Хотя нынешний Репербан мало чем отличается от старого. Дети по-прежнему продают «хашиш», а Бармалеи курят табак со смородиной.
