Привал - [3]
Несколько человек метнулись из строя, кто-то стал сдергивать с плеча автомат, но из верхних окон вокзала два крупнокалиберных пулемета прогрохотали короткими очередями поверх голов немцев.
Со звоном вылетели стекла в штабном вагоне, теплушки брызнули деревянными осколками, и немцы замерли, боясь пошевелиться.
— Стоять!!! — оглушительно произнесли репродукторы. — Еще одно движение — и все будут уничтожены за пятнадцать секунд!
Несколько танковых орудий, взламывая оконные переплеты нижних вокзальных окон, высунулось из закопченного краснокирпичного здания на перрон, деловито развернулось и взяло под прицел весь эшелон от паровоза до последней платформы.
«Это сон... — пронеслось в голове у полковника. — Кошмарный сон!.. Этого не может быть!.. Неужели наступило это?! Что же делать?..»
И словно отвечая ему, с крыши вокзального здания репродукторы приказали:
— Немедленно сложить оружие и сдаться в плен! Отогнать состав на запасный путь!
Пустой эшелон послушно двинулся и, набирая ход, покатился к водокачке. Открылся параллельный перрон второго пути, и полковник с ужасом увидел на нем цепь польских и русских автоматчиков. Стволы автоматов были направлены в спину немецкому строю.
«Боже мой, что же это? Какая-то чудовищная, совершенно опереточная ситуация!» — успел подумать полковник. У него выпал из глаза монокль и беспомощно повис на черном шелковом шнурочке.
— Кругом!!! — гаркнули по-немецки репродукторы.
Строй дисциплинированно повернулся, и немцы увидели, что они окружены... С лязганьем полетели на перрон карабины и автоматы.
Из центральных дверей вокзала спокойно вышел капитан Войска Польского Анджей Станишевский, и следом за ним на перрон тотчас выскочил старший лейтенант Красной Армии Валера Зайцев. В течение нескольких секунд из всех вокзальных дверей появились около сотни советских и польских солдат.
Не имея больше сил держаться на ногах, начальник станции прислонился к кирпичной стене и тихонько шептал молитву.
— Катись отсюда к такой-то матери! — по-польски приказал ему Станишевский.
Начальник станции не заставил Станишевского повторить приказание и буквально растворился, словно классическое привидение при первом утреннем петушином кукареканье.
— Андрюха! — восхищенно прошептал Валера Зайцев. — Смотри, какой генерал!.. Ну просто не генерал, а крем-брюле!
— Это не генерал, — сказал Станишевский. — Полковник.
Он уверенно подошел к немецкому полковнику и откозырял ему. Затем вытащил у него из кобуры «вальтер», сунул его к себе в карман и показал полковнику на вокзальную дверь.
— Андрюшенька! Голубчик... — взмолился Зайцев. — Отдай его мне! Я тебе за него что хочешь! Андрюха, будь друг, а?..
На долю секунды Станишевскому стало жалко этот полковничий «вальтер».
— Ладно, бери... — с нескрываемым сожалением проговорил Станишевский и вытащил «вальтер» из кармана.
— Да не это!.. — отчаянно зашептал Зайцев, держа полковника на мушке. — Ты мне генерала отдай!
— Это не генерал, а полковник.
— Черт с ним, пусть полковник... Зато какой солидный! У меня такого еще никогда не было. Отдай!
— Да бери, дерьма-то! — облегченно улыбнулся Станишевский и с удовольствием спрятал «вальтер» в карман. — Мам го в дупе тего пулковника! С тебя сто грамм.
— Бутылка! — счастливо крикнул Зайцев и пихнул полковника автоматом к вокзальным дверям: — Айда, ваше благородие...
Капитану Станишевскому было двадцать семь лет, старшему лейтенанту Зайцеву — двадцать три.
Они познакомились полтора года тому назад, когда двенадцать тысяч поляков Первой пехотной дивизии имени Тадеуша Костюшко и танкового полка имени Героев Вестерплатте вместе с частями Красной Армии прошли через Ярцево и Смоленск под Ленино, с тяжелыми боями форсировали Мерею, овладели деревнями Ползухи, Трегубово и заняли высоту 215,5. Это было в ночь с двенадцатого на тринадцатое октября 1943 года, в ноль часов тридцать восемь минут. А уже спустя три часа, в предутренней осенней темноте, младший лейтенант Валерка Зайцев — москвич, нахал, хвастун и хитрюга, не знающий сомнений ни при каких, казалось бы, самых безвыходных ситуациях, — тащил на себе в медсанбат польского подпоручика Анджея Станишевского, который шпарил по-русски не хуже самого Валерки. Конечно, многих слов, которыми Валерка пользовался легко и свободно, Станишевский еще не знал, но Валерка подозревал, что такие слова, наверное, есть и в польском языке.
Осколком мины у Станишевского была разорвана спина и, по всей вероятности, задето легкое: как только он начинал говорить, изо рта у него выступала кровавая розовая пена. Она превращалась в два тоненьких ручейка, сползала ему на подбородок, затекала за воротник мундира и сильно пачкала гимнастерку и ватник Валерки Зайцева.
К тому времени, когда ватник Зайцева почти пропитался кровью Станишевского, они натолкнулись на пожилого санинструктора и двух медсанбатовских санитарок. Валерка передал хрипящего Станишевского в руки измочаленных и перепуганных медиков.
На следующие сутки, во время короткой передышки, Валерка Зайцев отпросился у своего командира роты и на попутной машине примчался в медсанбат с гостинцем для Станишевского — банкой американской тушенки «второй фронт».
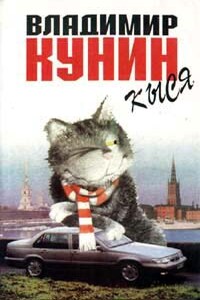
Роман В. Кунина «Кыся» написан в оригинальной манере рассказа — исповеди обыкновенного питерского кота, попавшего в вынужденную эмиграцию. Произведение написано динамично, смешно, остро, полно жизненных реалий и характеров.
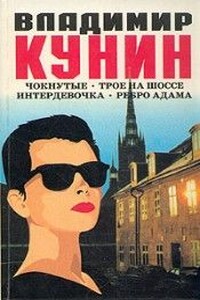
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
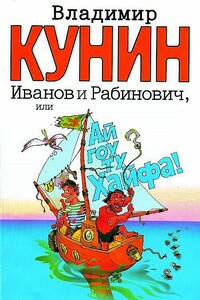
Перед вами — подлинная КЛАССИКА отечественного «диссидентского юмора». Книга, над которой хохотали — и будут хохотать — миллионы российских читателей, снова и снова не устающих наслаждаться «одиссеей» Иванова и Рабиновича, купивших по дешевке «исторически ценное» антикварное суденышко и отправившихся па нем в «далекую и загадочную» Хайфу. Где она, эта самая Хайфа, и что она вообще такое?! Пожалуй, не важно это не только для Иванова и Рабиновича, но и для нас — покоренных полетом иронического воображения Владимира Кунина!
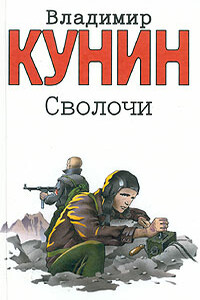
Война — и дети...Пусть прошедшие огонь и воду беспризорники, пусть уличные озлобленные волчата, но — дети!Или — мальчишки, которые были детьми... пока не попали в школу горноальпийских диверсантов.Здесь из волчат готовят профессиональных убийц. Здесь очень непросто выжить... а выжившие скорее всего погибнут на первом же задании...А если — не погибнут?Это — правда о войне. Правда страшная и шокирующая.Сильная и жесткая книга талантливого автора.
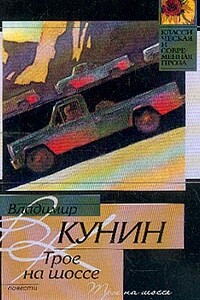
Мудрая, тонкая история о шоферах-дальнобойщиках, мужественных людях, знающих, что такое смертельная опасность и настоящая дружба.
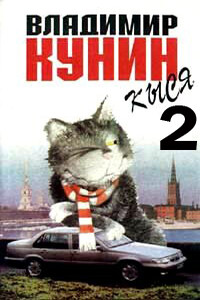
Продолжение полюбившейся читателю истории про кота Мартына.. Итак: вот уже полтора месяца я - мюнхенский КБОМЖ. Как говорится - Кот Без Определенного Места Жительства. Когда-то Шура Плоткин писал статью о наших Петербургских БОМЖах для "Часа пик", мотался по притонам, свалкам, чердакам, подвалам, заброшенным канализационным люкам, пил водку с этими несчастными полуЛюдьми, разговоры с ними разговаривал. А потом, провонявший черт знает чем, приходил домой, ложился в горячую ванну, отмокал, и рассказывал мне разные жуткие истории про этих бедных типов, каждый раз приговаривая: - Нет! Это возможно только у нас! Вот на Западе...
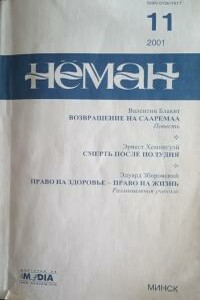
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
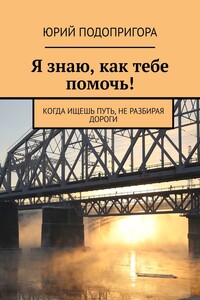
На самом деле, я НЕ знаю, как тебе помочь. И надо ли помогать вообще. Поэтому просто читай — посмеемся вместе. Тут нет рецептов, советов и откровений. Текст не претендует на трансформацию личности читателя. Это просто забавная повесть о человеке, которому пришлось нелегко. Стало ли ему по итогу лучше, не понял даже сам автор. Если ты нырнул в какие-нибудь эзотерические практики — читай. Если ты ни во что подобное не веришь — тем более читай. Или НЕ читай.
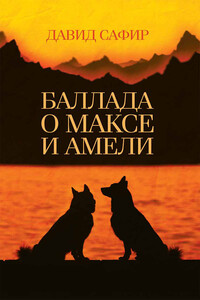
Макс жил безмятежной жизнью домашнего пса. Но внезапно оказался брошенным в трущобах. Его спасительницей и надеждой стала одноглазая собака по имени Рана. Они были знакомы раньше, в прошлых жизнях. Вместе совершили зло, которому нет прощения. И теперь раз за разом эти двое встречаются, чтобы полюбить друг друга и погибнуть от руки таинственной женщины. Так же как ее жертвы, она возрождается снова и снова. Вот только ведет ее по жизни не любовь, а слепая ненависть и невыносимая боль утраты. Но похоже, в этот раз что-то пошло не так… Неужели нескончаемый цикл страданий удастся наконец прервать?

Анжелика живет налегке, готовая в любой момент сорваться с места и уехать. Есть только одно место на земле, где она чувствует себя как дома, – в тихом саду среди ульев и их обитателей. Здесь, обволакиваемая тихой вибраций пчелиных крыльев и ароматом цветов, она по-настоящему счастлива и свободна. Анжелика умеет общаться с пчелами на их языке и знает все их секреты. Этот дар она переняла от женщины, заменившей ей мать. Девушка может подобрать для любого человека особенный, подходящий только ему состав мёда.
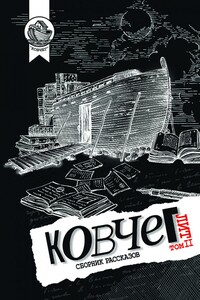
В сборник "Ковчег Лит" вошли произведения выпускников, студентов и сотрудников Литературного института имени А. М. Горького. Опыт и мастерство за одной партой с талантливой молодостью. Размеренное, классическое повествование сменяется неожиданными оборотами и рваным синтаксисом. Такой разный язык, но такой один. Наш, русский, живой. Журнал заполнен, группа набрана, список составлен. И не столь важно, на каком ты курсе, главное, что курс — верный… Авторы: В. Лебедева, О. Лисковая, Е. Мамонтов, И. Оснач, Е.
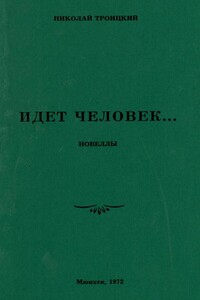
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.