Принципы и приемы анализа литературного произведения - [76]
Идея диапазона допустимых интерпретаций представляется, с одной стороны, очень привлекательной, с другой же – недостаточной. Привлекательность ее прежде всего в том, что она учитывает непреложный факт дискуссионности многих литературных произведений и индивидуально-личностный аспект в постижении художественных созданий. Разнообразные интерпретации, среди которых бывает нелегко, а то и невозможно выбрать одну верную, часто именно этими факторами и порождены. Настаивать в этих случаях на непременной однозначности прочтения значило бы действительно проявлять неплодотворный догматизм.
Во-вторых, идея В.Е. Хализева привлекает тем, что, очерчивая круг интерпретаций «научно-корректных», ставит тем самым определенный заслон интерпретациям некорректным, явно субъективным, натянутым, искажающим смысл. Но тут уже начинает проявляться то, что мы назвали недостаточностью концепции. Не говоря уже о том, что «диапазон» можно растягивать и сужать в зависимости от того, насколько широко понимать «научную корректность» конкретных интерпретаций, возникают и другие вопросы. Например: как соотносятся между собой интерпретации внутри допустимого диапазона? Они или в принципе равноправны и несводимы друг к другу (при этом среди интерпретаций возможны и взаимоисключающие?), или являются вариантами некоторой одной, «идеальной» интерпретации, различаясь по степени глубины, полноты и т. д. В первом случае открывается опасный простор интерпретационному произволу, так как в принципе непонятно, откуда может взяться множество равноправных толкований одного, единого художественного целого. И поскольку в этих условиях совершенно неясно, чем же определяется «научная корректность», мы неизбежно возвращаемся к «шеллинговско-потебнианским крайностям».
Второй случай представляется логически менее противоречивым, однако тогда, собственно, не обязательно говорить о «диапазоне» – скорее, речь должна идти о том, что среди многих относительно верных, научно корректных интерпретаций есть или может быть одна верная, остальные же относятся к ней как варианты, в той или иной мере приближенные к идеалу или отдаленные от него. Тогда это – принципиальное возвращение к точке зрения Скафтымова.
Может быть, лучше и продуктивнее остальных представлял себе диалектику объективного и субъективного в гуманитарном познании (а следовательно, и в интерпретации) М.М. Бахтин. Он различал два типа познания – познание вещи и познание личности. Первое в пределе может и должно быть абсолютно объективно, ибо вещь можно до конца «исчислить» и без ущерба для ее сущности превратить в «вещь для нас», так как вещь, предстающая как чистый объект, сама по себе начисто лишена субъективности. Познание же личности, по определению, не может быть совершенно объективным, ибо такое познание есть всегда «встреча» двух субъективностей, в результате чего это познание осуществляется как диалог. Сущность же диалога Бахтин определял как взаимопроникновение двух сознаний, при котором «активность познающего сочетается с активностью открывающегося (диалогичность); умение познать – с умением выразить себя <…> Кругозор познающего взаимодействует с кругозором познаваемого. Здесь “я” существую для другого и с помощью другого»[108]. Отсюда и принципиальные различия между науками естественными и гуманитарными, точностью естественнонаучной и литературоведческой: «В литературоведении точность – преодоление чуждости чужого без превращения его в чистое свое <…> Точные науки – это монологическая форма знания; интеллект созерцает вещь и высказывается о ней. Здесь только один субъект – познающий (созерцающий) и говорящий (высказывающийся). Ему противостоит только безгласная вещь <…> Но субъект (личность) как таковой не может восприниматься и изучаться как вещь, ибо, как субъект, он не может, оставаясь субъектом, быть безгласным, следовательно, познание его может быть только диалогическим»[109].
Развивая идеи Бахтина, хорошо пишет о специфике филологического познания С.С. Аверинцев: «Как служба понимания филология помогает выполнению одной из главных человеческих задач – понять другого человека (и другую культуру, другую эпоху), не превращая его ни в “исчислимую” вещь, ни в отражение собственных эмоций»
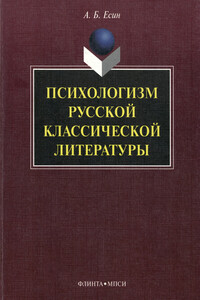
Книга известного литературоведа и культуролога, вышедшая впервые в 1988 году и ставшая уже малодоступной, давно пользуется заслуженным интересом читателей. Издание по-прежнему остается наиболее авторитетным исследованием литературного психологизма. Автор рассматривает вопрос о психологизме художественной литературы (прозы) как о высокой ступени ее развития. В русской литературе ученый находит психологизм в его развитом виде, начиная с прозы Лермонтова; далее в книге рассматривается накопление новых и новых приобретений в раскрытии тайн человеческой души (творчество Тургенева, Чернышевского, Л.
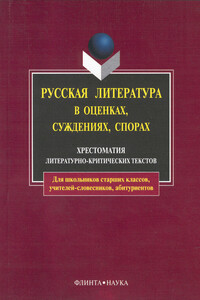
В хрестоматию входят статьи, письма, высказывания литературных критиков, писателей, публицистов, посвященные произведениям русской литературной классики от Пушкина до Чехова. Наряду с общеизвестными именами (Белинский, Добролюбов, Чернышевский, Писарев) представлены работы критиков и литераторов, которые до недавнего времени не изучались в школе и до сих пор остаются малоизвестными (С.П. Шевырева, К.С. Аксакова, А А. Григорьева, Д.С. Мережковского, И.Ф. Анненского и др.).Для школьников старших классов, учителей-словесников, абитуриентов.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Диссертация американского слависта о комическом в дилогии про НИИЧАВО. Перевод с московского издания 1994 г.

Книга доктора филологических наук профессора И. К. Кузьмичева представляет собой опыт разностороннего изучения знаменитого произведения М. Горького — пьесы «На дне», более ста лет вызывающего споры у нас в стране и за рубежом. Автор стремится проследить судьбу пьесы в жизни, на сцене и в критике на протяжении всей её истории, начиная с 1902 года, а также ответить на вопрос, в чем её актуальность для нашего времени.

Научное издание, созданное словенскими и российскими авторами, знакомит читателя с историей словенской литературы от зарождения письменности до начала XX в. Это первое в отечественной славистике издание, в котором литература Словении представлена как самостоятельный объект анализа. В книге показан путь развития словенской литературы с учетом ее типологических связей с западноевропейскими и славянскими литературами и культурами, представлены важнейшие этапы литературной эволюции: периоды Реформации, Барокко, Нового времени, раскрыты особенности проявления на словенской почве романтизма, реализма, модерна, натурализма, показана динамика синхронизации словенской литературы с общеевропейским литературным движением.

«Сказание» афонского инока Парфения о своих странствиях по Востоку и России оставило глубокий след в русской художественной культуре благодаря не только резко выделявшемуся на общем фоне лексико-семантическому своеобразию повествования, но и облагораживающему воздействию на души читателей, в особенности интеллигенции. Аполлон Григорьев утверждал, что «вся серьезно читающая Русь, от мала до велика, прочла ее, эту гениальную, талантливую и вместе простую книгу, — не мало может быть нравственных переворотов, но, уж, во всяком случае, не мало нравственных потрясений совершила она, эта простая, беспритязательная, вовсе ни на что не бившая исповедь глубокой внутренней жизни».В настоящем исследовании впервые сделана попытка выявить и проанализировать масштаб воздействия, которое оказало «Сказание» на русскую литературу и русскую духовную культуру второй половины XIX в.