Принципы и приемы анализа литературного произведения - [104]
К биографическому контексту можно отнести и то, что называют «творческой лабораторией» художника, изучение работы над текстом: черновиков, первоначальных редакций и т. п. Привлечение этого рода данных также необязательно для анализа (кстати, их может просто не быть), а при методологически неумелом использовании приносит только вред. В большинстве случаев логика преподавателей литературы ставит здесь все с ног на голову: факт окончательной редакции подменяется фактом черновика и в таком качестве призван что-то доказать. Так, многим учителям кажется более выразительным первоначальное заглавие комедии Грибоедова «Горе уму». В духе этого заглавия и интерпретируется идейный смысл произведения: умного Чацкого затравила фамусовская Москва. Но ведь логика при использовании фактов творческой истории произведения должна быть совершенно обратной: первоначальное заглавие было отброшено, значит, не подошло Грибоедову, показалось неудачным. Почему? – да, очевидно, именно из-за своей прямолинейности, резкости, не отражающей реальной диалектики взаимоотношений Чацкого и фамусовского общества. Именно эта диалектика хорошо передана в окончательном названии: горе не уму, а носителю ума, который сам ставит себя в ложное и смешное положение, меча, по выражению Пушкина, бисер перед Репетиловыми и проч. Вообще о соотношении окончательного текста и творчески-биографического контекста хорошо сказал тот же Скафтымов: «Что касается изучения черновых материалов, планов, последовательных редакционных изменений и пр., то и эта область изучения без теоретического анализа не может привести к эстетическому осмыслению окончательного текста. Факты черновика ни в коем случае не равнозначны фактам окончательной редакции. Намерения автора в том или ином его персонаже, например, могли меняться в разное время работы, и замысел мог представляться не в одинаковых чертах, и было бы несообразностью смысл черновых фрагментов, хотя бы и полных ясности, переносить на окончательный текст <…> Только само произведение может за себя говорить. Ход анализа и все заключения его должны имманентно вырастать из самого произведения. В нем самом автором заключены все концы и начала. Всякий отход в область ли черновых рукописей, в область ли биографических справок грозил бы опасностью изменить и исказить качественное и количественное соотношение ингредиентов произведения, а это в результате отозвалось бы на выяснении конечного замысла <…> суждения по черновикам были бы суждениями о том, каковым произведение хотело быть или могло быть, но не о том, каковым оно стало и является теперь в освященном автором окончательном виде»[133].
Ученому-литературоведу как бы вторит поэт; вот что пишет Твардовский по интересующему нас поводу: «Можно и должно не знать никаких “ранних” и т. п. произведений, никаких “вариантов” – и написать на основе общеизвестных и общезначимых произведений писателя самое главное и самое существенное» (Письмо П.С. Выходцеву от 21 апреля 1959 г.)[134].
В решении сложных и спорных вопросов интерпретации литературоведы-практики и особенно преподаватели литературы часто склонны прибегать к суждению самого автора о своем произведении, причем этому аргументу придается безусловно решающее значение («Сам автор говорил…»). Например, в интерпретации тургеневского Базарова таким аргументом становится фраза из письма Тургенева: «…если он называется нигилистом, то надо читать: революционером» (Письмо К.К. Случевскому от 14 апреля 1862 г.)[135]. Обратим, однако, внимание на то, что в тексте это определение не звучит, и уж конечно же, не из-за боязни цензуры, а по существу: ни одна черта характера не говорит о Базарове как о революционере, то есть, по словам Маяковского, как о человеке, который «понимая или угадывая грядущие века, дерется за них и ведет к ним человечество». А одной лишь ненависти к аристократам, неверия в бога и отрицания дворянской культуры для революционера явно недостаточно.
Другой пример – интерпретация Горьким образа Луки из пьесы «На дне». Горький уже в советскую эпоху писал: «…Есть еще весьма большое количество утешителей, которые утешают только для того, чтобы им не надоедали своими жалобами, не тревожили привычного покоя ко всему притерпевшейся холодной души. Самое дорогое для них именно этот покой, это устойчивое равновесие их чувствований и мыслей. Затем для них очень дорога своя котомка, свой собственный чайник и котелок для варки пищи <…> Утешители этого рода – самые умные, знающие и красноречивые. Они же поэтому и самые вредоносные. Именно таким утешителем должен был быть Лука в пьесе «На дне», но я, видимо, не сумел сделать его таким»[136].
Именно на этом высказывании и базировалось бывшее долгие годы господствующим понимание пьесы как обличения «утешительной лжи» и дискредитации «вредного старичка». Но опять же объективный смысл пьесы сопротивляется такому толкованию: Горький нигде не дискредитирует образа Луки художественными средствами – ни в сюжете, ни в высказываниях симпатичных ему персонажей. Наоборот – ехидно посмеиваются над ним лишь озлобленные циники – Бубнов, Барон, отчасти Клещ; не принимает ни Луку, ни его философию Костылев. Сохранившие же «душу живу» – Настя, Анна, Актер, Татарин – чувствуют в нем очень нужную им правду – правду участия и жалости к человеку. Даже Сатин, который как будто бы должен быть идейным антагонистом Луки, и тот заявляет: «Дубье… молчать о старике! Старик – не шарлатан. Что такое – правда? Человек – вот правда! Он это понимал… Он – умница!.. Он… подействовал на меня, как кислота на старую и грязную монету…». Да и в сюжете Лука проявляет себя лишь с самой хорошей стороны: по-человечески говорит с умирающей Анной, старается спасти Актера и Пепла, слушает Настю и т. п. Из всей структуры пьесы неизбежно вытекает вывод: Лука – носитель гуманного отношения к человеку, и его ложь иногда нужнее людям, чем унижающая правда.
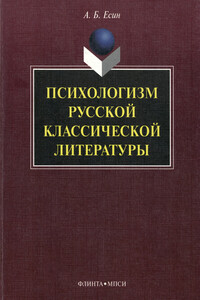
Книга известного литературоведа и культуролога, вышедшая впервые в 1988 году и ставшая уже малодоступной, давно пользуется заслуженным интересом читателей. Издание по-прежнему остается наиболее авторитетным исследованием литературного психологизма. Автор рассматривает вопрос о психологизме художественной литературы (прозы) как о высокой ступени ее развития. В русской литературе ученый находит психологизм в его развитом виде, начиная с прозы Лермонтова; далее в книге рассматривается накопление новых и новых приобретений в раскрытии тайн человеческой души (творчество Тургенева, Чернышевского, Л.
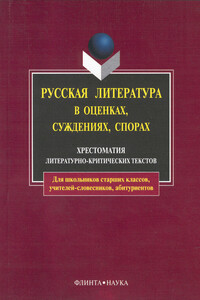
В хрестоматию входят статьи, письма, высказывания литературных критиков, писателей, публицистов, посвященные произведениям русской литературной классики от Пушкина до Чехова. Наряду с общеизвестными именами (Белинский, Добролюбов, Чернышевский, Писарев) представлены работы критиков и литераторов, которые до недавнего времени не изучались в школе и до сих пор остаются малоизвестными (С.П. Шевырева, К.С. Аксакова, А А. Григорьева, Д.С. Мережковского, И.Ф. Анненского и др.).Для школьников старших классов, учителей-словесников, абитуриентов.

Сюжет новой книги известного критика и литературоведа Станислава Рассадина трактует «связь» государства и советских/русских писателей (его любимцев и пасынков) как неразрешимую интригующую коллизию.Автору удается показать небывалое напряжение советской истории, сказавшееся как на творчестве писателей, так и на их судьбах.В книге анализируются многие произведения, приводятся биографические подробности. Издание снабжено библиографическими ссылками и подробным указателем имен.Рекомендуется не только интересующимся историей отечественной литературы, но и изучающим ее.

Оригинальное творчество Стендаля привлекло внимание в России задолго до того, как появился его первый знаменитый роман – «Красное и черное» (1830). Русские журналы пушкинской эпохи внимательно следили за новинками зарубежной литературы и периодической печати и поразительно быстро подхватывали все интересное и актуальное. Уже в 1822 году журнал «Сын Отечества» анонимно опубликовал статью Стендаля «Россини» – первый набросок его книги «Жизнь Россини» (1823). Чем был вызван интерес к этой статье в России?Второе издание.

В 1838 году в третьем номере основанного Пушкиным журнала «Современник» появилась небольшая поэма под названием «Казначейша». Автором ее был молодой поэт, чье имя стало широко известно по его стихам на смерть Пушкина и по последующей его драматической судьбе — аресту, следствию, ссылке на Кавказ. Этим поэтом был Михаил Юрьевич Лермонтов.

Книга посвящена пушкинскому юбилею 1937 года, устроенному к 100-летию со дня гибели поэта. Привлекая обширный историко-документальный материал, автор предлагает современному читателю опыт реконструкции художественной жизни того времени, отмеченной острыми дискуссиями и разного рода проектами, по большей части неосуществленными. Ряд глав книг отведен истории «Пиковой дамы» в русской графике, полемике футуристов и пушкинианцев вокруг памятника Пушкину и др. Книга иллюстрирована редкими материалами изобразительной пушкинианы и документальными фото.

В книге известного историка литературы, много лет отдавшего изучению творчества М. А. Булгакова, биография одного из самых значительных писателей XX века прочитывается с особым упором на наиболее сложные, загадочные, не до конца проясненные моменты его судьбы. Читатели узнают много нового. В частности, о том, каким был путь Булгакова в Гражданской войне, какие непростые отношения связывали его со Сталиным. Подробно рассказана и история взаимоотношений Булгакова с его тремя женами — Т. Н. Лаппа, Л. Е. Белозерской и Е. С. Нюренберг (Булгаковой).

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.