Приглашение на чай к доктору Борзигу - [9]
Франциска. Вам надо было там остаться. Вы бы мне рассказали, что он решил.
Фрау Борзиг. Не могу больше слышать их голоса, не могу видеть их лица. Скоро я уеду далеко-далеко, но прежде мне хотелось с вами поговорить: мне казалось, что игра стоит свеч. Берегитесь, вам сразу же набросят на глаза темное, тяжелое покрывало, и прежде чем вы соберетесь с силами и поднимете его, — окажется, что прошло уже десять лет. Это покрывало называется «Пожить для себя...». Вы сидите в темной комнате и беспомощно ерзаете, потом на секунду пробуждаетесь, но на вас уже успели накинуть второе покрывало под названием «Дети. Счастливое материнство...», в темноте вы слышите смех, вы поднимаете покрывало и узнаете, что прошло еще десять лет. Потом наступает краткий миг озарения, и вы видите, что вокруг вас совершенно чужие люди, вскормленные пантоталом. Это — ваши дети. Третье покрывало называется, так же как и первое, «Пожить для себя...», вам уже сорок пять лет, и вы с ужасом смотрите, как быстро пролетела жизнь. И ничего у вас не осталось, кроме грязи, которую нанесли годы. (Резче.) Разгребайте ее руками, выплевывайте, бросайте назад в прошедшие годы, кричите, стараясь перекричать вкрадчивое бормотание тупиц... Я не кричала, но зато теперь буду орать во все горло. Какое-то время осталось и у меня, и я воспользуюсь им...
Франциска (прерывает). Перестаньте, пожалуйста... у меня такое чувство, будто я уже много десятилетий глотаю грязь, о которой вы говорите. Мне страшно, мне кажется, что тело у меня налилось свинцом, — перестаньте, пожалуйста. Я должна была настоять, чтобы Роберт туда не ходил... нельзя гулять по болоту, либо ты его обойдешь, либо завязнешь. Я оказалась права, но теперь стыжусь своей правоты. Глупо торжествовать, надо ему как-то помочь, грош цена моей правоте... Все, что вы говорите, я и сама знала, но не так ясно... Просыпаясь, я пока еще не чувствую тошноты, я радуюсь ломтю хлеба, который съедаю за завтраком. Знаете, как вкусен хлеб... тот, что вы зовете сухой коркой?
Фрау Борзиг. Нет, забыла... Не знаю...
Франциска. Плохо! Это нельзя забывать, нельзя забывать, как ты разламываешь хлеб... как вонзаешь зубы в шероховатую корку... как ласкает твои губы мякиш и ты чувствуешь его сухую нежность. (Смеется.) И еще многое нельзя забывать: шум кофейной мельницы, которую по утрам вертела мама, шум этой маленькой, скрипучей кухонной шарманки... И как в соседнем доме хныкал ребенок. Нет, пока меня еще не тошнит, и мои дети будут моими детьми, и больше ничьими...
Фрау Борзиг. От всего сердца желаю вам удачи. Простите, если я вас напугала.
Франциска. Вы меня здорово напугали: грязью, которая с течением времени осядет во мне... и чувством тошноты по утрам... темными покрывалами, которые мне могут накинуть на глаза. Неужели я стану слепой игрушкой уходящих лет?.. Но в детстве вы, наверное, не плакали, сидя в зимний день на корточках перед булочной, и не вдыхали теплый, сладкий запах свежего хлеба...
Фрау Борзиг. Нет. А вы плакали... перед булочной?
Франциска. Да. Меня посылали купить несколько хлебцев, в руке я сжимала монетки, но прежде чем зайти в булочную, я становилась на колени прямо в сугроб у окна, окунала лицо в хлебный дух... И плакала.
Фрау Борзиг. Почему вы плакали?
Франциска. Не знаю почему... я не могла удержаться от слез и не понимала, как может жена булочника быть такой равнодушной... Когда я шла в школу, булочник стоял в дверях и курил, он был усталый, бледный и приветливый. Тогда мне становилось стыдно...
Фрау Борзиг (смеется). Чего вы стыдились?
Франциска. Не знаю... я стыдилась и его и себя... Может, мне было стыдно потому, что булочник был ко мне несправедлив, — впрочем, так же, как и я к нему... Такое же чувство бывает у меня, когда я плачу в кино. Роберт говорит, что ни один фильм не стоит слез.
Фрау Борзиг. Боже мой, вы плачете в кино! Но, детка моя... вы ведь должны... (Смеется.) Нет...
Франциска. Я знаю, что плакать глупо, этого делать не следует, но и Роберту не следует надо мной смеяться и ругать меня. Это так же, как с булочником... это так же, как со стихотворением о всемирном потопе. Вы правда находите его хорошим?
Фрау Борзиг. Я нахожу его прекрасным.
Франциска. А я — нет: может, оно и красивое, может, оно хорошо звучит... и картина, нарисованная в нем, прекрасна, но... я не знаю... мне кажется, что в нем — какая-то фальшь: если нас что-нибудь действительно страшит, надо плакать... А это стихотворение не вызывает слез, оно, видно, написано для людей, которые просыпаются по утрам с чувством тошноты, а меня еще пока не тошнит.
Фрау Борзиг. Я никогда не плакала перед окном булочной, никогда не плакала в кино и забыла, как вкусен хлеб... тот, что мы называем сухой коркой.
Франциска. Скажите, вы никогда не замечали, как красивы разноцветные леденцы: красные, зеленые... до чего же они зеленые, удивительно зеленые... меня это всегда трогает.
Фрау Борзиг. Мне их не разрешали сосать, это вредно для здоровья.
Франциска. Не так вредно, как глотать пыль, которую вы глотали всю жизнь. Они... (Внезапно прерывает себя.) Вот идет Роберт.

Послевоенная Германия, приходящая в себя после поражения во второй мировой войне. Еще жива память о временах, когда один доносил на другого, когда во имя победы шли на разрушение и смерть. В годы войны сын был военным сапером, при отступлении он взорвал монастырь, построенный его отцом-архитектором. Сейчас уже его сын занимается востановлением разрушенного.Казалось бы простая история от Генриха Белля, вписанная в привычный ему пейзаж Германии середины прошлого века. Но за простой историей возникают человеческие жизни, в которых дети ревнуют достижениям отцов, причины происходящего оказываются в прошлом, а палач и жертва заказывают пиво в станционном буфете.
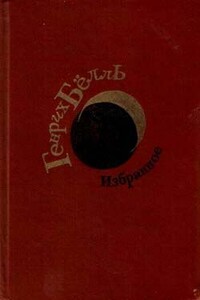
Бёлль был убежден, что ответственность за преступления нацизма и за военную катастрофу, постигшую страну, лежит не только нз тех, кого судили в Нюрнберге, но и на миллионах немцев, которые шли за нацистами или им повиновались. Именно этот мотив коллективной вины и ответственности определяет структуру романа «Где ты был, Адам?». В нем нет композиционной стройности, слаженности, которой отмечены лучшие крупные вещи Бёлля,– туг скорее серия разрозненных военных сцен. Но в сюжетной разбросанности романа есть и свой смысл, возможно, и свой умысел.

В романе "Групповой портрет с дамой" Г. Белль верен себе: главная героиня его романа – человек, внутренне протестующий, осознающий свой неприменимый разлад с окружающей действительностью военной и послевоенной Западной Германии. И хотя вся жизнь Лени, и в первую очередь любовь ее и Бориса Котловского – русского военнопленного, – вызов окружающим, героиня далека от сознательного социального протеста, от последовательной борьбы.

«Глазами клоуна» — один из самых известных романов Генриха Бёлля. Грустная и светлая книга — история одаренного, тонко чувствующего человека, который волею судеб оказался в одиночестве и заново пытается переосмыслить свою жизнь.Впервые на русском языке роман в классическом переводе Л. Б. Черной печатается без сокращений.

Одно из самых сильных, художественно завершенных произведений Бёлля – роман «Дом без хозяина» – строится на основе антитезы богатства и бедности. Главные герои здесь – дети. Дружба двух школьников, родившихся на исходе войны, растущих без отцов, помогает романисту необычайно рельефно представить социальные контрасты. Обоих мальчиков Бёлль наделяет чуткой душой, рано пробудившимся сознанием. Один из них, Генрих Брилах, познает унижения бедности на личном опыте, стыдится и страдает за мать, которая слывет «безнравственной».

Генрих Бёлль (1917–1985) — знаменитый немецкий писатель, лауреат Нобелевской премии (1972).Первое издание в России одиннадцати ранних произведений всемирно известного немецкого писателя. В этот сборник вошли его ранние рассказы, которые прежде не издавались на русском языке. Автор рассказывает о бессмысленности войны, жизненных тяготах и душевном надломе людей, вернувшихся с фронта.Бёлль никуда не зовет, ничего не проповедует. Он только спрашивает, только ищет. Но именно в том, как он ищет и спрашивает, постоянный источник его творческого обаяния (Лев Копелев).