Приёмыши революции - [287]
Когда умер Ильич, и придумали это всё с мавзолеем, она много думала об этом, хорошо это или нет. Говорила редко с кем, а думала много. С одной стороны — это понятно вообще очень хорошо, много ли народу в России успело Ильича увидеть? Может показаться, что много, тысячи. А миллионы не видели, а как же те, кто шли пешком в Москву — хоть не поговорить, не руку пожать, так посмотреть издали, домашним рассказать — вот, видели Ленина, такой-то он и такой… Не успели… А будущим поколениям как? Это ж как дети, потерявшие мать или отца в малолетстве, хорошо, если портрет хоть остался. Машка говорила, Егорушка так серьёзно в портрет отца тычет, объясняет Яшке — это дедушка. Яшка научился не плакать, что никогда они к дедушке не поедут, с портретом в обнимку сидит. А второго дедушки и портрета нет, кто б ему фотоснимки делал, крестьянскому сыну. Вот об этом Яшка плачет — что же, будто не было дедушки вообще? Так вот как не понять — желать родное, любимое лицо навсегда с собой оставить, да не на плоской бумаге, а зримо, живо… Но с другой — нет, невыносимо это, видеть это, мёртвого, как живого. Два раза была она в мавзолее, больше не выдавалось времени, да и самой не хотелось — не могла сдержать слёз. Не маленькая давно уже, всё понимает, и смерть столько раз уже видела… Но то другого кого-нибудь. Вообще жестокая это традиция в народе — гроб в доме ставить, чтоб прощались все с покойником. Как можно проститься с уже мёртвым? Целование покойника это самое, акт столь постыдный, что и говорить-то об этом противно? Насилие над тем, кто уж гарантированно воспротивиться, отшатнуться не может. Или это некое торжество жизни над смертью — мёртвый во власти живых, конечно, как куклу его обряжают и как хошь расцеловывают, даже если при жизни дышали-то при нём осторожно. Или это примирение со смертью — всё равно родной ты нам, хоть и чужой, потусторонней пустотой теперь наполнен вместо ушедшего в никуда тепла и голоса, и все мы там будем… Зарыть, скрыть с глаз поскорее, не вгрызаться взглядом, чтоб на сердце выжечь образ — всё равно стирается, меркнет он со временем, и так быть должно. Или глаза сердце убедят? Он и при жизни уже был краше в гроб кладут, ну так и что? Красивый, всё равно красивый… Приняла она смерть отца и матери — но об этом кому другому не описать и не представить. Кто-то подумать мог, потому, что не на её глазах умерли, но совсем не в том дело. Что нет их больше, она всем существом, всем нутром осознала и почувствовала — как ушёл прежний, старый мир, так и они ушли, в мире новом их живых быть не может. Мир переродился, она переродилась, есть такие двери, что обратно не открываются. Другое дело, что вот ей-то жить с этим и думать об этом, с виной перед ними, что она спаслась, а они нет, с виной перед сёстрами, что ничем их боль унять не может. Труднее приняла она смерть деда Фёдора — тоже не потому, что на её глазах умер, а потому, что был частью её жизни новой, её нового младенчества. А смерть Ильича совсем никак не принять, мало ли, что он болел столько, что Оля плакала, когда приходила она её навестить — и что болел, это тоже неправильно, мог и ещё пожить. Как-то гуляли они с Чавдаром и встретили сумасшедшего одного, старика в лохмотьях, он очень забавные речи вёл. Говорил, что видит у каждого человека его смерть. Не в том смысле, кто как умрёт, а натуральную прямо смерть — мелкого белёсого человечка, сидит будто у кого на плече, у кого на закорках, а у кого из сапога или из кармана выглядывает. Так всю жизнь человек эту смерть носит, выращивает. У одних большая такая смерть, с них почти что ростом, тем, значит, скоро уже умереть. А у кого маленькая совсем, в кулаке уместится — тем долго ещё, стало быть, землю топтать.
— У тебя вот, — сказал Чавдару, — большая смерть, большущая. Жалко, молодой совсем. А у тебя, девка, поменьше, дольше, видать, проживёшь. Но всё равно неподобающе.
— Ну тут ты прав, конечно, что все мы с собой смерть свою носим, — рассмеялся Чавдар, — и готовы к ней вполне, она нам родная уже, считай. А у тебя самого, дед, какая смерть, большая или маленькая? А то я-то никаких смертей не вижу, где она хоть у тебя помещается?
А дед сказал ещё, что у некоторых вот, бывает, как ни старается — не может эту смерть углядеть. То ли прячется шибко хорошо, под рубахой или под шапкой где, то ли просто дома они её что ли оставляют. Может, и вовсе потеряли они где свою смерть — мудрено ли, смерть пока маленькая, ручонки у неё хилые, может и отвалиться где в толчее, ходит потом, ищет своего человека, злится. Вот и не узнать никак, большая она или маленькая. Чавдар тогда предложил побежать, чтоб своих смертей постряхивать, а она подумала, что вот у Феликса непременно именно так — свою смерть потерял где-то, может, в Варшаве ещё, а кто ж пустит её через границу… А теперь она думала, как глупо и безнравственно это было всегда на Руси — почтение к юродивым, и какие ж ей попадались интересные, мудрые сумасшедшие…
Нет, слёз не было. Она видела, что плакали Алексей и Лиза, и ещё на чьих-то лицах видела слёзы — которые лица не сливались в одно неразличимое пятно со всем вокруг, а у неё в глазах просто словно песку насыпало, как бывает, когда долго не спишь. И нестерпимо жгло солнце, а ещё взгляды жгли — хотя лиц она и не различала почти, так что взгляды только её больному сознанию, вероятно, мерещились. Наверное, это выглядело со стороны как желание свернуться, в землю стечь, стать прозрачной, и стоящая рядом Зося тихо прижала её к себе, как будто утешала плачущую, и так, практически прячась за ней, Настя и стояла. И вспоминался чего-то выходной у Алёшиных, уже на новом месте, в доме, когда они с Зосей вышли нарвать зелени для салата и немного поговорили — разговоров таких тет-а-тет у них всего-то было два или три. «Знаете, Настя, вот вы из всей семьи к Алексею ближе всего по возрасту, но вы совсем другая… Иногда мне кажется, если бы не знала — я бы не предположила, что вы брат и сестра»… «Не обижайтесь, но мне кажется, на взгляд со стороны, что вы стали как-то эмоционально далеки друг от друга, а он ведь ваш брат, и вы единственная его сестра, которая осталась жить сравнительно недалеко от него, ему важна ваша поддержка. А вы даже видитесь редко»… И она неловко оправдывалась, что работа-работа, и ей действительно было очень неловко, стыдно даже от того, что она и сама это понимала уже год где-то, но сделать уже ничего не могла. Утешалась тем, что и другие близкие люди у него теперь есть, лучше, чище, мирнее, чем она, сама понимала, какое кривое это самоутешение. Факт есть, величайшая это иллюзия, что вот они, после того, как разъехались старшие, в одном городе остались, значит, самые близкие теперь… Старалась бывать почаще, общаться подушевнее, но всё казалось, что выходит это как-то неловко и коряво, словно она неумело играет, словно взрослому человеку приходится заново учиться ходить. Хотя ни любовь, ни нежность к брату никуда не прошли. Но… то ли вырос он. Без неё при том как-то. И она тоже. Без него. Вот и получается, что заново знакомятся. И вот почему б и нет, думается сейчас, если просто честно это принять, но как и многое, было это не осознано вовремя, в том и дело… Но легче и правильней казалось себя внутренне есть за это, что просто бяка она невнимательная, обещает себе исправиться да всё не исправляется, чем признать-то, что просто засели где-то внутри обсмеянные и как будто забытые слова тёти. Для неё умерла Настя, но для Алёши умирать не должна, и это не мёртвая оболочка с ним рядом сидит и бодрится, а просто занятой человек сестра и разучилась любовь сестринскую без неловкости выражать. Да, перед дядей Павлом притворяться ещё стыдно было, а перед братом уже нет… А вот какой смысл в этом теперь, когда всё уже потеряно и навсегда в дне вчерашнем — и Ульяна, Наташенька и куры, и Алёша с Лизонькой, и все её смешки и бодрячки, ругаться, мириться, откровенничать и сближаться можно, когда ты живой, или пока думаешь, что живой. Теперь всё равно он видит, как она ёжится под нестерпимым солнцем, и ему тоже должно быть не по себе, что не простился с нею вовремя… И когда вроде как настало время бросить горсть земли, она наклонилась, зачерпнула — а кулак разжать никак не могла, перестала чувствовать руки. А вслед за тем, кажется, и ноги, не осознала, как в какой-то момент, видимо, покачнулась на краю, только секунду спустя осознала, что её дёрнули за воротник, что в падении подхватили, что уткнулась в чей-то китель, кажется, Кобы, ну, голос, успокаивающий её и поручавший кому-то довести её и позаботиться, принадлежал явно Кобе. И только в тени, в тишине, после холодной воды и внутрь и наружно на лоб немного в себя начала приходить, цветные пятна перед глазами плясать перестали, и все невеликие силы, какие ещё оставались, ушли на убеждение Славы не звонить никуда и не продлевать ей увольнительную, не говорить про перевод обратно сюда или тем более про какое-нибудь там на море полечиться вообще не слышала чтоб, поквохтать больше не над кем что ли? Ехать надо. Работать надо. Он бы тоже так ответил… А в кулаке так и осталась земля, спрессованная в камень.

«С замиранием сердца ждал я, когда начнет расплываться в глазах матово сияющий плафон. Десять кубов помчались по моей крови прямо к сердцу, прямо к мозгу, к каждому нерву, к каждой клетке. Скоро реки моих вен понесут меня самого в ту сторону, куда устремился ты — туда, где все они сливаются с чёрной рекой Стикс…».

До сих пор версия гибели императора Александра II, составленная Романовыми сразу после события 1 марта 1881 года, считается официальной. Формула убийства, по-прежнему определяемая как террористический акт революционной партии «Народная воля», с самого начала стала бесспорной и не вызывала к себе пристального интереса со стороны историков. Проведя формальный суд над исполнителями убийства, Александр III поспешил отправить под сукно истории скандальное устранение действующего императора. Автор книги провел свое расследование и убедительно ответил на вопросы, кто из венценосной семьи стоял за убийцами и виновен в гибели царя-реформатора и какой след тянется от трагической гибели Александра II к революции 1917 года.
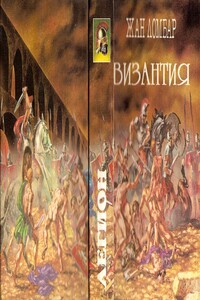
Книги Ж. Ломбара "Агония" и "Византия" представляют классический образец жанра исторического романа. В них есть все: что может увлечь даже самого искушенного читателя: большой фактический материал, динамический сюжет, полные антикварного очарования детали греко-римского быта, таинственность перспективы мышления древних с его мистикой и прозрениями: наконец: физиологическая изощренность: без которой, наверное, немыслимо воспроизведение многосложности той эпохи.

Эта книга — история двадцати знаковых преступлений, вошедших в политическую историю России. Автор — практикующий юрист — дает правовую оценку событий и рассказывает о политических последствиях каждого дела. Книга предлагает новый взгляд на широко известные события — такие как убийство Столыпина и восстание декабристов, и освещает менее известные дела, среди которых перелет через советскую границу и первый в истории теракт в московском метро.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Япония, Исландия, Австралия, Мексика и Венгрия приглашают вас в онлайн-приключение! Почему Япония славится змеями, а в Исландии до сих пор верят в троллей? Что так притягивает туристов в Австралию, и почему в Мексике все балансируют на грани вымысла и реальности? Почему счастье стоит искать в Венгрии? 30 авторов, 53 истории совершенно не похожие друг на друга, приключения и любовь, поиски счастья и умиротворения, побег от прошлого и взгляд внутрь себя, – читайте обо всем этом в сборнике о путешествиях! Содержит нецензурную брань.
