Придворная словесность: институт литературы и конструкции абсолютизма в России середины XVIII века - [92]
В языке теодицеи познание божества в природе неотделимо от рефлексии о политических судьбах и соответствующей им нравственной дисциплине. Так, в «Письмах о природе и человеке» Кантемира созерцание и развернутое описание тварного мира предстает операцией этического (само)совершенствования субъекта, ведущего политическое существование и размышляющего о его законах. Фигура всемогущего бога становится точкой отсчета для осмысления общественных иерархий и этики успеха:
Мы видим людей многих, имущих великое богатство, знатные чины и изобилие даже до роскоши надмерной в домах своих, но редко от них слышим, чтоб они сказали: «уже живу я года два или три безмятежно, дух мой ныне спокоен, и ничего не желаю». <…> Если б всякий помнил, что никто властию почтен не бывает, как званны от бога, то б сего беспокойства не имели, всякой бы доволен был определенным. <…> добродетель научает человека довольствоваться тем, что он имеет, не допускает завидовать другому состоянию, сокращает желания <…> (Кантемир 1867–1868, II, 21–22).
Моралистика «Писем» направлена, как видим, против избыточных желаний и недовольства своим общественным положением. Противоядием от них должна служить идея бога, физико-теологическая риторика и связанная с ними специфическая нравственная программа, отождествляющая этический императив «добродетели» с политическим смирением и приятием иерархического строя как такового. Повествователь «Писем…» учится такому приятию после карьерной «неудачи», которую он – в отличие от древнего «афинского мещанина» – с гордостью приписывает не «несклонности судей <…> и народа», а «единой власти всемогущего бога» (Там же, 25).
Эта констелляция различима и в сочинениях Ломоносова. Еще одна цитата из стихов Клавдиана против Руфина обнаруживается в составленном Ломоносовым черновом наброске проповеди «о существовании бога» (см.: Шмараков 2015, 122–123). Этот набросок предположительно датируется 1752–1753 гг., временем публикации «Оды, выбранной из Иова», и представляет собой приступ к заключенным в ней темам. Цитируем его полностью, с включением интересующего нас зачеркнутого варианта:
В проповеди De existentia Dei in exordio dicendum erit [«О существовании бога» во вступлении следует сказать]: Ужас объемлет и мысли ослабевают хотящаго говорить о толь высокой вещи. Однако правда подает надежду и помощь того, cujus causa agitur [о ком идет речь].
Полк безбожников противу ополчается, пример: червяк <зачеркнуто: и царския палаты; монарх и червяк> и черьвь в лесу и в презренном листу гнилой капусты. Сверьчок в деревни за печью кричит и думает про себя, чать, много. Ex Claudiano. Toll[untur] [из Клавдиана. Возносятся]. Возносятся на высоту беззакониями и неправдами, но к тяжчайшему падению (Ломоносов, VIII, 545).
Фигура всесильного бога и сопутствующий ей риторический аффект обращаются во втором абзаце против «безбожников». Эти последние отличаются, впрочем, не столько своими мнениями о метафизических вопросах (в этом отношении и сам Ломоносов не был вне подозрений), сколько модусом политической субъектности, – амбицией, соотнесенной с пространством «царских палат» и фигурой «монарха». Безбожником оказывается сверчок, не знающий своего шестка. Далее Ломоносов цитирует широко известные стихи Клавдиана, часто иллюстрировавшие единство божественных и политических судеб. В изданной при Петре «Церковной истории» Ц. Барония ими сопровождается рассказ о гибели Руфина:
Страшныя судбы Божия: Сей иже на венчание царскою диадимою изыде, кровию своею венчася, а юноша кесарь незлобив, иже о кознех ничтоже ведяше, покровением руки Божия свободися от злокозненнаго сановника своего. Поганин Клавдиан сему удивляяся глаголет: Уже богов разрешаю, имже поносих, яко злых праведно не наказуют, и велие благополучие подают им. Ныне познах: яко того ради высоко возносят злых, да бы тяжчайшим падением низпадали.
(Цит. по: Шмараков 2015, 33)
В одическом языке Ломоносова этот мотивный комплекс появляется в политико-аллегорической картине падения Бирона, наследующей европейским инвективам против «мятежных феодалов» (см.: Пумпянский 1935, 113–118):
(Ломоносов, VIII, 37–38)
В такой риторической обработке сюжет падения вельможи увязывается одновременно с образом божественного могущества и с уроком личного смирения. В оде Кантемира «Против безбожных» такой урок тоже опирается на политические доказательства божьей власти: «Низит высоких, низких возвышает». В четвертой и последней эпистоле «Опыта о человеке» Поупа вопрос о справедливости распределения земных благ и невзгод, богатства и бедности разворачивается в апологию политической иерархии:
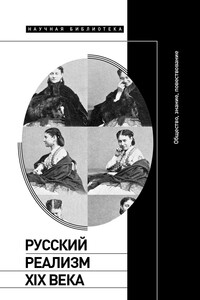
Научная дискуссия о русском реализме, скомпрометированная советским литературоведением, прервалась в постсоветскую эпоху. В результате модернизация научного языка и адаптация новых академических трендов не затронули историю русской литературы XIX века. Авторы сборника, составленного по следам трех международных конференций, пытаются ответить на вопросы: как можно изучать реализм сегодня? Чем русские жанровые модели отличались от западноевропейских? Как наука и политэкономия влияли на прозу русских классиков? Почему, при всей радикальности взглядов на «женский вопрос», роль женщин-писательниц в развитии русского реализма оставалась весьма ограниченной? Возобновляя дискуссию о русском реализме как важнейшей «моделирующей системе» определенного этапа модерности, авторы рассматривают его сквозь призму социального воображаемого, экономики, эпистемологии XIX века и теории мимесиса, тем самым предлагая читателю широкий диапазон современных научных подходов к проблеме.

Боевая работа советских подводников в годы Второй мировой войны до сих пор остается одной из самых спорных и мифологизированных страниц отечественной истории. Если прежде, при советской власти, подводных асов Красного флота превозносили до небес, приписывая им невероятные подвиги и огромный урон, нанесенный противнику, то в последние два десятилетия парадные советские мифы сменились грязными антисоветскими, причем подводников ославили едва ли не больше всех: дескать, никаких подвигов они не совершали, практически всю войну простояли на базах, а на охоту вышли лишь в последние месяцы боевых действий, предпочитая топить корабли с беженцами… Данная книга не имеет ничего общего с идеологическими дрязгами и дешевой пропагандой.

Автор монографии — член-корреспондент АН СССР, заслуженный деятель науки РСФСР. В книге рассказывается о главных событиях и фактах японской истории второй половины XVI века, имевших значение переломных для этой страны. Автор прослеживает основные этапы жизни и деятельности правителя и выдающегося полководца средневековой Японии Тоётоми Хидэёси, анализирует сложный и противоречивый характер этой незаурядной личности, его взаимоотношения с окружающими, причины его побед и поражений. Книга повествует о феодальных войнах и народных движениях, рисует политические портреты крупнейших исторических личностей той эпохи, описывает нравы и обычаи японцев того времени.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В настоящей книге чешский историк Йосеф Мацек обращается к одной из наиболее героических страниц истории чешского народа — к периоду гуситского революционного движения., В течение пятнадцати лет чешский народ — крестьяне, городская беднота, массы ремесленников, к которым примкнула часть рыцарства, громил армии крестоносцев, собравшихся с различных концов Европы, чтобы подавить вспыхнувшее в Чехии революционное движение. Мужественная борьба чешского народа в XV веке всколыхнула всю Европу, вызвала отклики в различных концах ее, потребовала предельного напряжения сил европейской реакции, которой так и не удалось покорить чехов силой оружия. Этим периодом своей истории чешский народ гордится по праву.

Имя автора «Рассказы о старых книгах» давно знакомо книговедам и книголюбам страны. У многих библиофилов хранятся в альбомах и папках многочисленные вырезки статей из журналов и газет, в которых А. И. Анушкин рассказывал о редких изданиях, о неожиданных находках в течение своего многолетнего путешествия по просторам страны Библиофилии. А у немногих счастливцев стоит на книжной полке рядом с работами Шилова, Мартынова, Беркова, Смирнова-Сокольского, Уткова, Осетрова, Ласунского и небольшая книжечка Анушкина, выпущенная впервые шесть лет тому назад симферопольским издательством «Таврия».

В интересной книге М. Брикнера собраны краткие сведения об умирающем и воскресающем спасителе в восточных религиях (Вавилон, Финикия, М. Азия, Греция, Египет, Персия). Брикнер выясняет отношение восточных религий к христианству, проводит аналогии между древними религиями и христианством. Из данных взятых им из истории религий, Брикнер делает соответствующие выводы, что понятие умирающего и воскресающего мессии существовало в восточных религиях задолго до возникновения христианства.

В своем последнем бестселлере Норберт Элиас на глазах завороженных читателей превращает фундаментальную науку в высокое искусство. Классик немецкой социологии изображает Моцарта не только музыкальным гением, но и человеком, вовлеченным в социальное взаимодействие в эпоху драматических перемен, причем человеком отнюдь не самым успешным. Элиас приземляет расхожие представления о творческом таланте Моцарта и показывает его с неожиданной стороны — как композитора, стремившегося контролировать свои страсти и занять достойное место в профессиональной иерархии.

Представление об «особом пути» может быть отнесено к одному из «вечных» и одновременно чисто «русских» сценариев национальной идентификации. В этом сборнике мы хотели бы развеять эту иллюзию, указав на относительно недавний генезис и интеллектуальную траекторию идиомы Sonderweg. Впервые публикуемые на русском языке тексты ведущих немецких и английских историков, изучавших историю довоенной Германии в перспективе нацистской катастрофы, открывают новые возможности продуктивного использования метафоры «особого пути» — в качестве основы для современной историографической методологии.

Для русской интеллектуальной истории «Философические письма» Петра Чаадаева и сама фигура автора имеют первостепенное значение. Официально объявленный умалишенным за свои идеи, Чаадаев пользуется репутацией одного из самых известных и востребованных отечественных философов, которого исследователи то объявляют отцом-основателем западничества с его критическим взглядом на настоящее и будущее России, то прочат славу пророка славянофильства с его верой в грядущее величие страны. Но что если взглянуть на эти тексты и самого Чаадаева иначе? Глубоко погружаясь в интеллектуальную жизнь 1830-х годов, М.

Книга посвящена истории русской эмоциональной культуры конца XVIII – начала XIX века: времени конкуренции двора, масонских лож и литературы за монополию на «символические образы чувств», которые образованный и европеизированный русский человек должен был воспроизводить в своем внутреннем обиходе. В фокусе исследования – история любви и смерти Андрея Ивановича Тургенева (1781–1803), автора исповедального дневника, одаренного поэта, своего рода «пилотного экземпляра» человека романтической эпохи, не сумевшего привести свою жизнь и свою личность в соответствие с образцами, на которых он был воспитан.