Придворная словесность: институт литературы и конструкции абсолютизма в России середины XVIII века - [54]
В «Письме о некоторой заразительной болезни» Сумароков вновь упоминал гудок в качестве социальной эмблемы:
Вышел некогда черт из-под каменнова моста и, опознавшися с подьячим Корчемной конторы, прохаживаяся по городу, шел мимо Петровского кружала [кабака] и услышал огромную музыку и пение: известно, что черти до музыки охотники, а особливо до гудков: и зашел туда по зову подьячева, которой ему объявлял, что в том доме продают разныя напитки, а при том на всякой день представляют оперу, в которой самая лучшая инструментальная музыка, гудки, волынки, рыле, балалайки и протчее, и что самыя тут лутчия певцы и танцовщики, а иногда и баталии представляются <…> (Сумароков, 1787, VI, 354–355).
Кабацкие увеселения, сопровождающиеся звуком гудка, представлены здесь нелепой пародией на оперу – главный торжественно-панегирический жанр петербургского придворного театра, фигурировавший в хвалебных описаниях среди символов утвердившегося в России хорошего вкуса. Сам Сумароков в 1750‐х гг. сочинил два оперных либретто по высочайшему заказу.
В «Двух эпистолах», где упоминание гудка также сочеталось с осуждением взяточников-подьячих, Сумароков апеллировал к придворному социокультурному идеалу, в котором эстетика изящного потребления переплеталась с требованиями служебной этики. В письме «К издателю „Трудолюбивой пчелы“», помещенном в последнем, декабрьском номере сумароковского журнала (1759), литературные труды Сумарокова восхвалялись от имени «некотораго общества, которых благородныя мысли ответствуют знатности их и благорождению: они так ненавидят порок лихоимства, как гонителей онаго почитают» (ТП, 756–757). Этот нормативный идеал придворного и государственного вкуса часто формулировался при помощи музыкальных тропов. Влиятельнейший немецкий теоретик галантной этики Х. Томазий писал в своем манифесте «Речь о том, как следует подражать французам в быту и обхождении» («Discours, welcher Gestalt man denen Franzosen in gemeinen Leben und Wandel nachzuahmen hat?», 1687),
daß also den Namen d’un homme de bon goust derjenige verdienet <…> der sich lieber an einer anmuthigen Laute oder wohlgestrichene Violine als an den besten Brumeisen oder der zierlichsten Sackpfeiffe delectiret <…> der eine vergnügliche und dem gemeinen wesen nüzliche Lebens=Art einer verdrießlichen und pedantischen vorziehet.
[что имени человека с хорошим вкусом заслуживает тот, <…> кто охотнее забавляется на приятной лютне или хорошо выделанной скрипке, чем на лучшей гармошке или благозвучнейшей волынке <…> кто предпочитает приятный и полезный обществу образ жизни педантическому и грубому.] (Thomasius 1994, 13–14)
Переплетение эстетической регламентации с механикой сословного статуса и политической этикой стоит и за теми строками «Эпистолы II», в которых Сумароков непосредственно вводит понятие вкуса:
(Сумароков 1957, 116–117)
А. Юингтон, показавшая первостепенную важность категории вкуса для эстетики Сумарокова, обращает внимание на эти стихи и справедливо отмечает в них «напряжение между буквальным значением вкуса как одного из телесных чувств и переносным значением разборчивости в суждениях» (Ewington 1990, 184).
Используя понятие вкус – по французскому образцу – в переносном значении и канонизируя его в качестве эстетической категории, Сумароков поясняет непривычную для русского читателя кальку при помощи гастрономической аналогии. Аналогии такого рода исполняли двойную роль: с одной стороны, они отсылали к реалиям аристократического быта, а с другой – служили аллегорическим кодом эстетической рефлексии. Отправляясь от двойного значения вкуса и сопоставляя словесность с угощением, Кениг развернуто повествует о кулинарных навыках, принятых «в знатнейших застольях» («an <…> vornehmsten Tafeln» – Canitz 1727, 310). Эстетическое наслаждение он сближает с аристократическим императивом избыточного потребления:
In sinnreichen Schrifften wird so wenig, als dort für eine vornehme Tafel, alles nur schlechterdings zur Noth, sondern auch zur Belustigung verfertiget.
[В остроумных сочинениях, как и в вельможном застолье, готовят не только по необходимости, но и для увеселения.] (Canitz 1727, 317)
Вишня и виноград, упомянутые Сумароковым в качестве достойных ягод, были узнаваемой приметой придворной кулинарной роскоши: так, в 1744 г. Татищев, в ту пору губернатор в Астрахани, сообщал в Петербург, что «ягоды вишня, априкозы, виноград», согласно полученному распоряжению «сымать и отправлять» их ко двору, «выбираюца <…> изо всех обывательских садов, где лутчее есть, и с тех деревьев не только в народ на продажу, но и хозяевам про себя брать воспрещено» (Татищев 1990, 309). В то же время сумароковский образ плодового сада восходит к иносказанию Квинтилиана (Inst. Orat., 8.3.8–11):
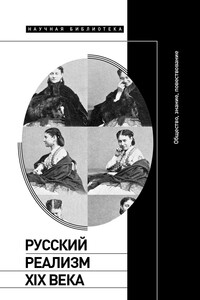
Научная дискуссия о русском реализме, скомпрометированная советским литературоведением, прервалась в постсоветскую эпоху. В результате модернизация научного языка и адаптация новых академических трендов не затронули историю русской литературы XIX века. Авторы сборника, составленного по следам трех международных конференций, пытаются ответить на вопросы: как можно изучать реализм сегодня? Чем русские жанровые модели отличались от западноевропейских? Как наука и политэкономия влияли на прозу русских классиков? Почему, при всей радикальности взглядов на «женский вопрос», роль женщин-писательниц в развитии русского реализма оставалась весьма ограниченной? Возобновляя дискуссию о русском реализме как важнейшей «моделирующей системе» определенного этапа модерности, авторы рассматривают его сквозь призму социального воображаемого, экономики, эпистемологии XIX века и теории мимесиса, тем самым предлагая читателю широкий диапазон современных научных подходов к проблеме.

Автор монографии — член-корреспондент АН СССР, заслуженный деятель науки РСФСР. В книге рассказывается о главных событиях и фактах японской истории второй половины XVI века, имевших значение переломных для этой страны. Автор прослеживает основные этапы жизни и деятельности правителя и выдающегося полководца средневековой Японии Тоётоми Хидэёси, анализирует сложный и противоречивый характер этой незаурядной личности, его взаимоотношения с окружающими, причины его побед и поражений. Книга повествует о феодальных войнах и народных движениях, рисует политические портреты крупнейших исторических личностей той эпохи, описывает нравы и обычаи японцев того времени.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В настоящей книге чешский историк Йосеф Мацек обращается к одной из наиболее героических страниц истории чешского народа — к периоду гуситского революционного движения., В течение пятнадцати лет чешский народ — крестьяне, городская беднота, массы ремесленников, к которым примкнула часть рыцарства, громил армии крестоносцев, собравшихся с различных концов Европы, чтобы подавить вспыхнувшее в Чехии революционное движение. Мужественная борьба чешского народа в XV веке всколыхнула всю Европу, вызвала отклики в различных концах ее, потребовала предельного напряжения сил европейской реакции, которой так и не удалось покорить чехов силой оружия. Этим периодом своей истории чешский народ гордится по праву.

Имя автора «Рассказы о старых книгах» давно знакомо книговедам и книголюбам страны. У многих библиофилов хранятся в альбомах и папках многочисленные вырезки статей из журналов и газет, в которых А. И. Анушкин рассказывал о редких изданиях, о неожиданных находках в течение своего многолетнего путешествия по просторам страны Библиофилии. А у немногих счастливцев стоит на книжной полке рядом с работами Шилова, Мартынова, Беркова, Смирнова-Сокольского, Уткова, Осетрова, Ласунского и небольшая книжечка Анушкина, выпущенная впервые шесть лет тому назад симферопольским издательством «Таврия».
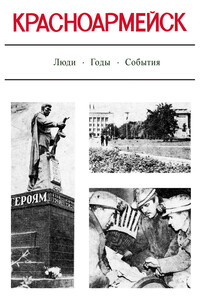
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В интересной книге М. Брикнера собраны краткие сведения об умирающем и воскресающем спасителе в восточных религиях (Вавилон, Финикия, М. Азия, Греция, Египет, Персия). Брикнер выясняет отношение восточных религий к христианству, проводит аналогии между древними религиями и христианством. Из данных взятых им из истории религий, Брикнер делает соответствующие выводы, что понятие умирающего и воскресающего мессии существовало в восточных религиях задолго до возникновения христианства.

В своем последнем бестселлере Норберт Элиас на глазах завороженных читателей превращает фундаментальную науку в высокое искусство. Классик немецкой социологии изображает Моцарта не только музыкальным гением, но и человеком, вовлеченным в социальное взаимодействие в эпоху драматических перемен, причем человеком отнюдь не самым успешным. Элиас приземляет расхожие представления о творческом таланте Моцарта и показывает его с неожиданной стороны — как композитора, стремившегося контролировать свои страсти и занять достойное место в профессиональной иерархии.

Представление об «особом пути» может быть отнесено к одному из «вечных» и одновременно чисто «русских» сценариев национальной идентификации. В этом сборнике мы хотели бы развеять эту иллюзию, указав на относительно недавний генезис и интеллектуальную траекторию идиомы Sonderweg. Впервые публикуемые на русском языке тексты ведущих немецких и английских историков, изучавших историю довоенной Германии в перспективе нацистской катастрофы, открывают новые возможности продуктивного использования метафоры «особого пути» — в качестве основы для современной историографической методологии.

Для русской интеллектуальной истории «Философические письма» Петра Чаадаева и сама фигура автора имеют первостепенное значение. Официально объявленный умалишенным за свои идеи, Чаадаев пользуется репутацией одного из самых известных и востребованных отечественных философов, которого исследователи то объявляют отцом-основателем западничества с его критическим взглядом на настоящее и будущее России, то прочат славу пророка славянофильства с его верой в грядущее величие страны. Но что если взглянуть на эти тексты и самого Чаадаева иначе? Глубоко погружаясь в интеллектуальную жизнь 1830-х годов, М.

Книга посвящена истории русской эмоциональной культуры конца XVIII – начала XIX века: времени конкуренции двора, масонских лож и литературы за монополию на «символические образы чувств», которые образованный и европеизированный русский человек должен был воспроизводить в своем внутреннем обиходе. В фокусе исследования – история любви и смерти Андрея Ивановича Тургенева (1781–1803), автора исповедального дневника, одаренного поэта, своего рода «пилотного экземпляра» человека романтической эпохи, не сумевшего привести свою жизнь и свою личность в соответствие с образцами, на которых он был воспитан.