Придворная словесность: институт литературы и конструкции абсолютизма в России середины XVIII века - [112]
«Высшим [или, точнее, «возвышенным»] разумом» здесь именуется риторическая иллюзия «божественной власти», разработанная законодателем ради создания общественного порядка. Религия оборачивается одновременно обличием политического господства и искусно-увлекательным вымыслом, видом поэзии. Движущий принцип этого вымысла – порождение власти как политической структуры и риторического эффекта, подчиняющего себе воображение подданных. Узловым тропом этой конструкции служит уже знакомая нам параллель между сотворением человека и созданием гражданской общины, вменяющая мифологически-поэтическим картинам творения огромную политическую роль.
На этом фоне проясняется медиальная «установка» ломоносовской оды, выразительно обнаруженная в строфе 1746 г. Жест поэта, усваивающего себе библейскую сцену в качестве фигуры речи, укоренен в определенной политической эстетике, именуемой «возвышенным». Кульминацией строфы оказываются строки, воспроизводящие силу всевышнего повеления и пронизанные заимствованными у Буало понятиями власти:
Поэтический эффект этих стихов демонстративно политичен: восхищение читателя адресуется принципу власти, распределенному между божеством и монархиней, чей переворот составляет тему оды. Коллективный аффект читательской публики, к которому взывают «возвышенные» строки оды, прямо соотнесен с механикой переворота. У Ломоносова, как и у Шекспира, сотворение мира оказывается узловым тропом политической аккламации – стихийного одобрения столичной толпы или народа, необходимого для успешного захвата власти. Строфа оды 1746 г. предшествует уже цитировавшимся формулам аккламации Елизаветы:
Разворачивая две параллельные функции тропа, образ сотворения мира обретает в ломоносовских стихах аффективную выразительность и аналитическую референтность. В нем обнаруживается заданное гоббезианской теорией соотнесение бога, монарха и панегирического поэта как авторов и авторитетных инстанций политико-богословского консенсуса. Понятая таким образом власть учреждается на наших глазах речевой силой заимствованного из Библии тропа.
Возвышенное в истолковании Лонгина и Буало обеспечивает торжественной оде глоссарий речевых тропов и изобразительных фигур, позволяющих представить могущество суверена и символическую общность царства (см.: Ram 2003, 41 sqq). В качестве примера «высоких мыслей» Ломоносов – вслед за Лонгином – приводит изображение Посейдона у Гомера:
(Ломоносов, X, 491)
Лонгин рассматривает эти стихи прямо перед отрывком из Книги Бытия, с которым их объединяет изображение божества «dans toute sa majesté et sa grandeur» ([во всем его могуществе и величии] – Boileau 1966, 353). За стихами, переведенными Ломоносовым, у Лонгина следуют другие:
[Он запрягает свою колесницу и, гордо взойдя на нее, рассекает волны влажной стихии. Завидев его поступь по этим жидким равнинам, скачут грузные киты. Влага трепещет под ногами божества, предписывающего ей закон, и как будто с радостью узнает своего повелителя.] (Boileau 1966, 353)
«Могущество и величие», атрибуты суверенной власти, параллельно разворачиваются в сюжетном движении и эстетическом воздействии божественного образа: волны распознают в Посейдоне своего владыку, и их покорность передается читателям в форме эстетического переживания. Возвышенный аффект, смешивающий ужас с удовольствием, оборачивается эстетической матрицей господства и подданства. Средоточием этой матрицы оказывается изображение власти, созданный поэтическим искусством «смертный бог».
Ломоносов заимствовал этот портрет Нептуна вместе с его политическими смыслами в «Оде на прибытие… Елисаветы Петровны… 1742 года…»:
(Ломоносов, VIII, 91–92)
Ил. 2. Ф. Г. Мюллер, медаль «На командование четырьмя флотами при Борнгольме», 1716
Элементы гомеровского образа распределены здесь между двумя планами аллегорического тропа. Не названный по имени исполин оказывается изобразительным иносказанием реальной военной силы – русского флота, устанавливающего господство над Балтийским морем в ходе военных действий против Швеции. Такое использование фигуры Нептуна не было окказиональным изобретением Ломоносова: средствами возвышенной поэзии он воспроизводил политико-эмблематический ход петровской эпохи.
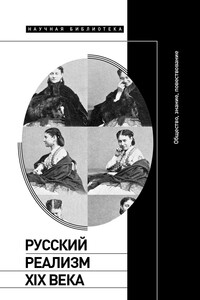
Научная дискуссия о русском реализме, скомпрометированная советским литературоведением, прервалась в постсоветскую эпоху. В результате модернизация научного языка и адаптация новых академических трендов не затронули историю русской литературы XIX века. Авторы сборника, составленного по следам трех международных конференций, пытаются ответить на вопросы: как можно изучать реализм сегодня? Чем русские жанровые модели отличались от западноевропейских? Как наука и политэкономия влияли на прозу русских классиков? Почему, при всей радикальности взглядов на «женский вопрос», роль женщин-писательниц в развитии русского реализма оставалась весьма ограниченной? Возобновляя дискуссию о русском реализме как важнейшей «моделирующей системе» определенного этапа модерности, авторы рассматривают его сквозь призму социального воображаемого, экономики, эпистемологии XIX века и теории мимесиса, тем самым предлагая читателю широкий диапазон современных научных подходов к проблеме.

Автор монографии — член-корреспондент АН СССР, заслуженный деятель науки РСФСР. В книге рассказывается о главных событиях и фактах японской истории второй половины XVI века, имевших значение переломных для этой страны. Автор прослеживает основные этапы жизни и деятельности правителя и выдающегося полководца средневековой Японии Тоётоми Хидэёси, анализирует сложный и противоречивый характер этой незаурядной личности, его взаимоотношения с окружающими, причины его побед и поражений. Книга повествует о феодальных войнах и народных движениях, рисует политические портреты крупнейших исторических личностей той эпохи, описывает нравы и обычаи японцев того времени.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В настоящей книге чешский историк Йосеф Мацек обращается к одной из наиболее героических страниц истории чешского народа — к периоду гуситского революционного движения., В течение пятнадцати лет чешский народ — крестьяне, городская беднота, массы ремесленников, к которым примкнула часть рыцарства, громил армии крестоносцев, собравшихся с различных концов Европы, чтобы подавить вспыхнувшее в Чехии революционное движение. Мужественная борьба чешского народа в XV веке всколыхнула всю Европу, вызвала отклики в различных концах ее, потребовала предельного напряжения сил европейской реакции, которой так и не удалось покорить чехов силой оружия. Этим периодом своей истории чешский народ гордится по праву.

Имя автора «Рассказы о старых книгах» давно знакомо книговедам и книголюбам страны. У многих библиофилов хранятся в альбомах и папках многочисленные вырезки статей из журналов и газет, в которых А. И. Анушкин рассказывал о редких изданиях, о неожиданных находках в течение своего многолетнего путешествия по просторам страны Библиофилии. А у немногих счастливцев стоит на книжной полке рядом с работами Шилова, Мартынова, Беркова, Смирнова-Сокольского, Уткова, Осетрова, Ласунского и небольшая книжечка Анушкина, выпущенная впервые шесть лет тому назад симферопольским издательством «Таврия».
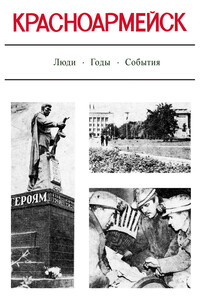
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В интересной книге М. Брикнера собраны краткие сведения об умирающем и воскресающем спасителе в восточных религиях (Вавилон, Финикия, М. Азия, Греция, Египет, Персия). Брикнер выясняет отношение восточных религий к христианству, проводит аналогии между древними религиями и христианством. Из данных взятых им из истории религий, Брикнер делает соответствующие выводы, что понятие умирающего и воскресающего мессии существовало в восточных религиях задолго до возникновения христианства.

В своем последнем бестселлере Норберт Элиас на глазах завороженных читателей превращает фундаментальную науку в высокое искусство. Классик немецкой социологии изображает Моцарта не только музыкальным гением, но и человеком, вовлеченным в социальное взаимодействие в эпоху драматических перемен, причем человеком отнюдь не самым успешным. Элиас приземляет расхожие представления о творческом таланте Моцарта и показывает его с неожиданной стороны — как композитора, стремившегося контролировать свои страсти и занять достойное место в профессиональной иерархии.

Представление об «особом пути» может быть отнесено к одному из «вечных» и одновременно чисто «русских» сценариев национальной идентификации. В этом сборнике мы хотели бы развеять эту иллюзию, указав на относительно недавний генезис и интеллектуальную траекторию идиомы Sonderweg. Впервые публикуемые на русском языке тексты ведущих немецких и английских историков, изучавших историю довоенной Германии в перспективе нацистской катастрофы, открывают новые возможности продуктивного использования метафоры «особого пути» — в качестве основы для современной историографической методологии.

Для русской интеллектуальной истории «Философические письма» Петра Чаадаева и сама фигура автора имеют первостепенное значение. Официально объявленный умалишенным за свои идеи, Чаадаев пользуется репутацией одного из самых известных и востребованных отечественных философов, которого исследователи то объявляют отцом-основателем западничества с его критическим взглядом на настоящее и будущее России, то прочат славу пророка славянофильства с его верой в грядущее величие страны. Но что если взглянуть на эти тексты и самого Чаадаева иначе? Глубоко погружаясь в интеллектуальную жизнь 1830-х годов, М.

Книга посвящена истории русской эмоциональной культуры конца XVIII – начала XIX века: времени конкуренции двора, масонских лож и литературы за монополию на «символические образы чувств», которые образованный и европеизированный русский человек должен был воспроизводить в своем внутреннем обиходе. В фокусе исследования – история любви и смерти Андрея Ивановича Тургенева (1781–1803), автора исповедального дневника, одаренного поэта, своего рода «пилотного экземпляра» человека романтической эпохи, не сумевшего привести свою жизнь и свою личность в соответствие с образцами, на которых он был воспитан.