Превращения смысла - [17]
Как показывает мой базисный пример, ошибка коренится не столько в языковой манифестации знания (невинной, как Адам до грехопадения), сколько в самом знании, в частности в перепутывании его предметных областей (старшина из анекдота использует информацию, почерпнутую из геометрии, на уроке, посвященном строению материи). Язык – семиотическая машина по исправлению ошибок, вкрадывающихся в мышление и практику. Если кто-то сочтет эту формулировку слишком сильным обобщением незатейливого рассказа о полковом наставнике, он должен принять во внимание, что знак как Другое вещи может выполнять функцию обозначения таковой только в порядке автокоррекции – самоуточнения и самоотрицания. Знак не указывал бы на мир, не обладай он способностью опровергать себя. И он не был бы также коммуникативным орудием, если бы не располагал возможностью, посредничая между отправителем и получателем сообщений, уступать чужой точке зрения во всяческих переиначиваниях говорения (вроде: «Пойми меня правильно. Вот что я на самом деле хотел сказать…»). Язык выработал множество приемов, с помощью которых он старается избежать промахов в доносимой им до адресатов мысли. Наряду с отрицательными конструкциями чрезвычайно важная роль достается здесь условным предложениям, предвосхищающим вероятные возражения описанием условий своей истинности, указанием на обстоятельства, в которых она была бы допустима. Доказательность (sophia apodeiktiké) лежит в природе языка, который требует аргументированности, дабы подступиться к реалиям. Очень обычная в ХХ веке критика языка (например, у Чарлза Морриса), восходящая к романтизму и вместе с ним – к апофатике, была запрограммирована внутри языка, неустанно занятого критической авторефлексией и тем самым вооружающего трансцендентального субъекта. Национальные языки нацелены на то, чтобы выйти из своих пределов, пересекаясь друг с другом в лексических и фразеологических взаимозаимствованиях, сотрудничая с научными жаргонами, дополняясь формализованными языками логики и математики и т.п. Лингвистическая партикулярность пребывает в развитии, влекущем ее в сторону универсализма – к lingua Adamica, к наращиванию отражательной силы знаков, пусть их референтная мощь и не становится никогда абсолютной. С равным правом язык можно было бы назвать и семиотической мастерской по починке мысли, и исповедальной, где духовник выслушивает раскаяния в грехах. Адаму была назначена должность ономатопоэта, потому что ему предстояло повиниться в переступании границ дозволенного. Как медиум, в котором происходит взятие ошибки назад, как инстанция извинения, язык вызывает доверие к себе. Именно поэтому языком злоупотребляют, ставя его на службу обману, намеренной лжи, каковая есть Другое автокоррекции, сопутствующей приближению к правде посредством знаков. Иными словами, заведомое введение в заблуждение – ошибка, делающая вид, что она не нуждается в поправке.
Тексты – наиболее далекоидущий результат самопреодоления, в которое втянут язык. В максимуме они не нуждаются в действительности вне себя, созидают ее, референтны в себе, преобразуют значения в смысл. Эта трансформация связывает значения, то есть релятивизует истинность/ложность каждого из них как имеющих дело с вещами; коротко: развещeствляет значения. Сама семантическая связь, следовательно, ни истинна, ни ложна, она попросту есть, потому что может быть. Идея единосущностного бытия, выдвигаемая философией смысла, экстериоризует и генерализует свойственную сознанию ассоциативность, снимает несходство отношений, выдавая их за всесвязь, обнаруживая в картине мира панкогерентность.
В чем соль анекдота о незадачливом старшине? Как физическое, так и геометрическое значения, которыми оперирует герой этого текста, истинны. Подмена одного из них другим ведет к фальши и завершается тем, что субституции дается обратный ход. Анекдот не просто полон смысла, но и тематизирует его. Смыслоносное установление отношения между двумя значениями, позволяющее осуществить замещение, безразлично к истине, превращающейся в ложь, которая устранима, если вернуться в сферу значений. Мы смеемся, ни много ни мало, над самим смыслом, над горе-учителем, добивающимся от бытия единства, но терпящим при этом крах. Вместе с тем нельзя сказать, подлинна или нет история, поднимающая нас на метауровень, с которого нам предлагается бросить взгляд на смысл. Реверсируя неправильную подстановку, она знакомит нас с отношением как таковым, которое в конечном счете амбивалентно, готово обслуживать то недостоверное, то достоверное знание. Смысл легко скатывается в нонсенс, но смысл смысла в том, чтобы расположиться по ту сторону верифицируемости/фальсифицируемости, – таков урок, преподносимый анекдотом. В первом приближении мы думаем, что анекдот выбивает комический эффект из смысла, между тем как в своей последней глубине текст смеется над нами, реципиентами, потерявшимися бы при попытке понять, истинен он или ложен, но не сомневающимися, что раскусили шутку, раз нам ясно, откуда взялись невероятные сведения о закипании воды при девяноста градусах.
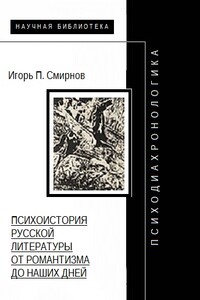
Читатель обнаружит в этой книге смесь разных дисциплин, состоящую из психоанализа, логики, истории литературы и культуры. Менее всего это смешение мыслилось нами как дополнение одного объяснения материала другим, ведущееся по принципу: там, где кончается психология, начинается логика, и там, где кончается логика, начинается историческое исследование. Метод, положенный в основу нашей работы, антиплюралистичен. Мы руководствовались убеждением, что психоанализ, логика и история — это одно и то же… Инструментальной задачей нашей книги была выработка такого метаязыка, в котором термины психоанализа, логики и диахронической культурологии были бы взаимопереводимы.

Подборка около 60 статей написанных с 1997 по 2015 ггИгорь Павлович Смирнов (р. 1941) — филолог, писатель, автор многочисленных работ по истории и теории литературы, культурной антропологии, политической философии. Закончил филологический факультет ЛГУ, с 1966 по 1979 год — научный сотрудник Института русской литературы АН СССР, в 1981 году переехал в ФРГ, с 1982 года — профессор Констанцского университета (Германия). Живет в Констанце (Германия) и Санкт-Петербурге.

В книге профессора И. П. Смирнова собраны в основном новые работы, посвященные художественной культуре XX века. В круг его исследовательских интересов в этом издании вошли теория и метатеория литературы; развитие авангарда вплоть до 1940–1950-х гг.; смысловой строй больших интертекстуальных романов – «Дара» В. Набокова и «Доктора Живаго» Б. Пастернака; превращения, которые претерпевает в лирике И. Бродского топика поэтического безумия; философия кино и самопонимание фильма относительно киногенной действительности.
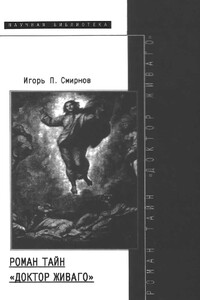
Исследование известного литературоведа Игоря П. Смирнова посвящено тайнописи в романе Б. Пастернака «Доктор Живаго» Автор стремится выявить зашифрованный в нем опыт жизни поэта в культуре, взятой во многих измерениях — таких, как история, философия, религия, литература и искусство, наука, пытается заглянуть в смысловые глубины этого значительного и до сих пор неудовлетворительно прочитанного произведения.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

К 200-летию «Науки логики» Г.В.Ф. Гегеля (1812 – 2012)Первый перевод «Науки логики» на русский язык выполнил Николай Григорьевич Дебольский (1842 – 1918). Этот перевод издавался дважды:1916 г.: Петроград, Типография М.М. Стасюлевича (в 3-х томах – по числу книг в произведении);1929 г.: Москва, Издание профкома слушателей института красной профессуры, Перепечатано на правах рукописи (в 2-х томах – по числу частей в произведении).Издание 1929 г. в новой орфографии полностью воспроизводит текст издания 1916 г., включая разбивку текста на страницы и их нумерацию (поэтому в первом томе второго издания имеется двойная пагинация – своя на каждую книгу)

В настоящее время Мишель Фуко является одним из наиболее цитируемых авторов в области современной философии и теории культуры. В 90-е годы в России были опубликованы практически все основные произведения этого автора. Однако отечественному читателю остается практически неизвестной деятельность Фуко-политика, нашедшая свое отражение в многочисленных статьях и интервью.Среди тем, затронутых Фуко: проблема связи между знанием и властью, изменение механизмов функционирования власти в современных обществах, роль и статус интеллектуала, судьба основных политических идеологий XX столетия.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
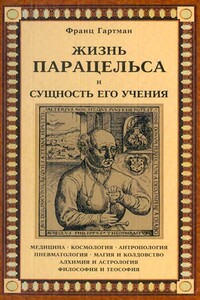
Автор книги — немецкий врач — обращается к личности Парацельса, врача, философа, алхимика, мистика. В эпоху Реформации, когда религия, литература, наука оказались скованными цепями догматизма, ханжества и лицемерия, Парацельс совершил революцию в духовной жизни западной цивилизации.Он не просто будоражил общество, выводил его из средневековой спячки своими речами, своим учением, всем своим образом жизни. Весьма велико и его литературное наследие. Философия, медицина, пневматология (учение о духах), космология, антропология, алхимия, астрология, магия — вот далеко не полный перечень тем его трудов.Автор много цитирует самого Парацельса, и оттого голос этого удивительного человека как бы звучит со страниц книги, придает ей жизненность и подлинность.
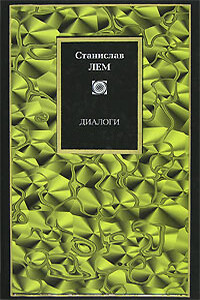
Размышления знаменитого писателя-фантаста и философа о кибернетике, ее роли и месте в современном мире в контексте связанных с этой наукой – и порождаемых ею – социальных, психологических и нравственных проблемах. Как выглядят с точки зрения кибернетики различные модели общества? Какая система более устойчива: абсолютная тирания или полная анархия? Может ли современная наука даровать человеку бессмертие, и если да, то как быть в этом случае с проблемой идентичности личности?Написанная в конце пятидесятых годов XX века, снабженная впоследствии приложением и дополнением, эта книга по-прежнему актуальна.

Эта книга — увлекательная смесь философии, истории, биографии и детективного расследования. Речь в ней идет о самых разных вещах — это и ассимиляция евреев в Вене эпохи fin-de-siecle, и аберрации памяти под воздействием стресса, и живописное изображение Кембриджа, и яркие портреты эксцентричных преподавателей философии, в том числе Бертрана Рассела, игравшего среди них роль третейского судьи. Но в центре книги — судьбы двух философов-титанов, Людвига Витгенштейна и Карла Поппера, надменных, раздражительных и всегда готовых ринуться в бой.Дэвид Эдмондс и Джон Айдиноу — известные журналисты ВВС.

Новая книга известного филолога и историка, профессора Кембриджского университета Александра Эткинда рассказывает о том, как Российская Империя овладевала чужими территориями и осваивала собственные земли, колонизуя многие народы, включая и самих русских. Эткинд подробно говорит о границах применения западных понятий колониализма и ориентализма к русской культуре, о формировании языка самоколонизации у российских историков, о крепостном праве и крестьянской общине как колониальных институтах, о попытках литературы по-своему разрешить проблемы внутренней колонизации, поставленные российской историей.

Это книга о горе по жертвам советских репрессий, о культурных механизмах памяти и скорби. Работа горя воспроизводит прошлое в воображении, текстах и ритуалах; она возвращает мертвых к жизни, но это не совсем жизнь. Культурная память после социальной катастрофы — сложная среда, в которой сосуществуют жертвы, палачи и свидетели преступлений. Среди них живут и совсем странные существа — вампиры, зомби, призраки. От «Дела историков» до шедевров советского кино, от памятников жертвам ГУЛАГа до постсоветского «магического историзма», новая книга Александра Эткинда рисует причудливую панораму посткатастрофической культуры.

Представленный в книге взгляд на «советского человека» позволяет увидеть за этой, казалось бы, пустой идеологической формулой множество конкретных дискурсивных практик и биографических стратегий, с помощью которых советские люди пытались наделить свою жизнь смыслом, соответствующим историческим императивам сталинской эпохи. Непосредственным предметом исследования является жанр дневника, позволивший превратить идеологические критерии времени в фактор психологического строительства собственной личности.