Преступница - [5]
— Извольте, мои господа, я стану веселить вас, — отвечает она живо и начинает петь, плясать, скакать, кружиться около своих палачей, обнимает их, целует, ласкает. Поднимается шум, гам, визг, свист, хохот, топот. Мужики дикими воплями изъявляют свое скотское удовольствие, смотря на ее неистовства: «Вот девка! угодила! лихо! вот удача! эй, жги, припевай!» Поют вместе с нею, пляшут, стучат, кричат, буйствуют, бранятся, дерутся… Она их мирит и после всякой песни, пляски, миру обходит со штофом в руках, низко кланяется, потчует. Мужики беспрестанно напиваются из рук ее больше и больше и, наконец, одоленные вином, утихают мало-помалу и без чувств, без памяти падают на землю один после другого, издавая изредка только нестройные, бессмысленные звуки. Целовальника успела она, расточая ему свои ласки, напоить так, что он свалился еще прежде гостей своих. Тогда выбегает она из кабака, набирает, сколько может, соломы и сена, щепок и всякой мелочи в сени, в соседнюю каморку около дома, запирает двери, вылезает сама из окошка и зажигает строение вдруг в разных местах.
Успех соответствовал ее безумному желанию, и злодей, отравивший жизнь несчастной, погиб вместе с своими товарищами, жертвою ее ужасного мщения, как читатели видели выше; а она, взволнованная сими происшествиями, помешалася на время к своему счастию.
Таким образом один неосторожный шаг на покатом пути порока повергнул добродетельную девушку в бездну преступлений и несчастий.
Нянька ее, как узнали еще во время допросов, утонула почти пред самым Соловецким островом.
Императрица Екатерина II пред отбытием своим из Нижнего, призвав ее родителей, сказала им свое милостивое, утешительное слово, а ее, внимая гласу милосердия, повелела содержать в монастыре и, в случае освобождения от болезни, подчинить строжайшим правилам по уставу, какой вообще наблюдается для ссылаемых на покаяние. — Сама игуменья вызвалась из человеколюбия ходить за нею и пещись от исцелении ее души и тела.
Прошло несколько лет. Старания достопочтенной женщины увенчались желаемым успехом; сперва обратила она, разумеется, внимание на временное сумасшествие больной. Тишина, уединение, однообразие, жизнь без сует и попечений сами собою уже много способствовали к успокоению ее духа, и припадки год от году случались реже и слабее, а наконец совершенно прекратились. С душою, рожденною для добродетели, действовать было еще легче. Игуменья, пользуясь всякою благоприятною минутою, старалась прежде всего ослабить в ней прежние впечатления, затмить в ее воображении прошедшую жизнь и устремить все ее внимание на новые труды, обязанности, предприятия. — Потом начала читать с нею Евангелие и сочинения учителей церкви[6], толковала ей высокие истины, в них заключающиеся, указывала на великих грешников, которых раскаяние принято богом и которые сделались лучезарными светильниками веры и добродетели, примерами жизни благочестивой и святой, — и таким образом успела успокоить волновавшееся сердце, возродить в нем надежду, представить ей ясно цель, средства, путь ко спасению. Воспитанница вникала более и более в ее наставления, забывала мир со всеми его страстями, обновлялась духом, устремлялась к небу; и, наконец, постригшись в монахини, посвятила себя богу. Тогда-то душа ее, искушенная в горниле бедствия, погрузилась совершенно в море духовных наслаждений, коих алкала еще во время своей невинной юности…
В монастыре познакомился с нею случайно один благочестивый муж, посвятивший всю жизнь свою на размышление о таинствах религии. «Ни на одной картине Рафаеля, Корреджио, Дольче не видывал я, — говорил он своим друзьям, — такого самоотвержения, такой глубокой скорби и уверенности в своем ничтожестве, и вместе такого благоговейного восторга, как на лице и в глазах этой монахини. Душа ее как будто б освятилась еще на земле, и она так высоко вознеслась в области добродетели, как прежде глубоко низверглась было в бездну порока. Тогда-то, — заключал достопочтенный старец, — понял, почувствовал я святое слово великого Человеколюбца[7]: яко тако радость будет на небеси о едином грешнике кающемся, нежели о девяти десятих и девяти праведник, иже не требуют покаяния» (Лук. гл. XV. ст. 7).
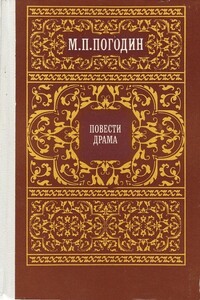
«Убийца» с подзаголовком «анекдот» впервые напечатан в «Московском вестнике» за 1827 г., ч. V, № XX, с. 374–381; «Возмездие» — там же, ч. VI, № XXIV, с. 404–407 со следующим предисловием: «(Приношу усердную благодарность А. З. Зиу, рассказавшему мне сие происшествие. В предлагаемом описании я удержал почти все слова его. — В истине можно поручиться.При сем случае я не могу не отнестись с просьбою к моим читателям: в Русском царстве, на пространстве 350 т. кв. миль, между 50 м. жителей, случается много любопытного и достопримечательного — не благоугодно ли будет особам, знающим что-либо в таком роде, доставлять известия ко мне, и я буду печатать оные в журнале, с переменами или без перемен, смотря по тому, как того пожелают гг-да доставляющие.) М.

Михаил Петрович Погодин (1800–1875) — историк, литератор, издатель журналов «Московский вестник» (1827–1830), «Московский наблюдатель» (1835–1837; совместно с рядом литераторов), «Москвитянин» (1841–1856). Во второй половине 1820-х годов был близок к Пушкину.
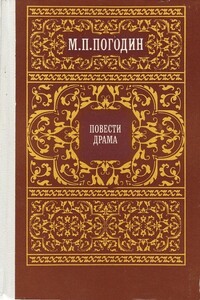
Повесть была впервые напечатана в альманахе «Урания» за 1826 г. Написана в Знаменском летом 1825 г. После событий 14 декабря Погодин опасался, что этой повестью он навлёк на себя подозрения властей. В 1834 г. Белинский писал, что повесть «Нищий» замечательна «по верному изображению русских простонародных нравов, по теплоте чувства, по мастерскому рассказу» (Белинский В. Г. Полн. собр. соч., т. 1, с. 94).
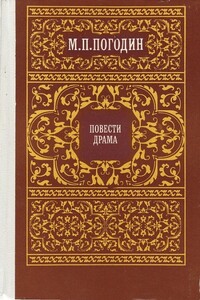
Исторический эпизод, положенный в основу трагедии, подробно описан в «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина, к которой восходит множество исторически достоверных деталей, использованных Погодиным. Опирался Погодин и на летописи. Основные вымышленные события и лица указаны им самим в предисловии. Кроме того, участие в вымышленной фабуле приписано некоторым историческим фигурам (Упадышу, Овину и др.); события, происходившие в разное время на протяжении 1470-х годов, изображены как одновременные.Сам Погодин так характеризовал свою трагедию в письме к Шевыреву: «У меня нет ни любви, ни насильственной смерти, ни трех единств.

В «Адели» присутствуют автобиографические мотивы, прототипом героини послужила княжна Александра Ивановна Трубецкая, домашним учителем которой был Погодин; в образе Дмитрия соединены черты самого Погодина и его рано умершего друга, лидера московских любомудров, поэта Д. В. Веневитинова, как и Погодин, влюбленного в Трубецкую.
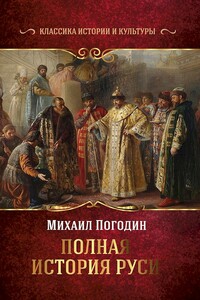
Михаил Петрович Погодин — один из первых историков, положивших начало новой русской историографии. Его всегда отличал интерес к истории Домонгольской Руси и критическое отношение к историческим источникам. Именно Погодин открыл и ввел в научный оборот многие древние летописи и документы. В этой книге собраны важнейшие труды Погодина, посвященные Древней Руси, не потерявшие своей научной ценности до сих пор.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
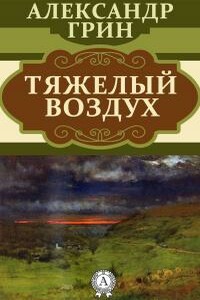
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В сборник произведений писателя-символиста Георгия Чулкова (1879–1939) вошли новеллы «Сестра», «Морская Царевна», «Подсолнухи», «Омут», «Судьба» и «Голос из могилы».
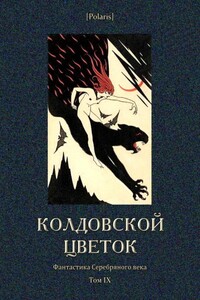
Русская фантастическая проза Серебряного века все еще остается terra incognita — белым пятном на литературной карте. Немало замечательных произведений как видных, так и менее именитых авторов до сих пор похоронены на страницах книг и журналов конца XIX — первых десятилетий XX столетия. Зачастую они неизвестны даже специалистам, не говоря уже о широком круге читателей. Этот богатейший и интереснейший пласт литературы Серебряного века по-прежнему пребывает в незаслуженном забвении. Антология «Фантастика Серебряного века» призвана восполнить создавшийся пробел.
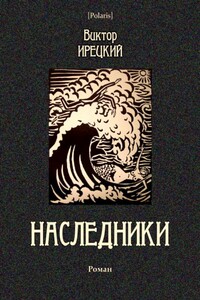
Научно-фантастический роман «Наследники», созданный известным в эмиграции писателем В. Я. Ирецким (1882–1936) — это и история невероятной попытки изменить течение Гольфстрима, и драматическое повествование о жизни многих поколений датской семьи, прошедшей под знаком одержимости Гольфстримом и «роковых страстей». Роман «Наследники», переиздающийся впервые, продолжает в серии «Polaris» ряд публикаций фантастических и приключенческих произведений писателей русской эмиграции. Издание дополнено рецензиями П.
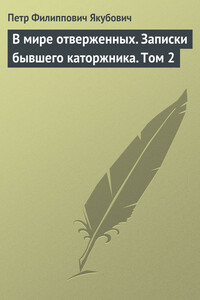
«…Следует прежде всего твердо помнить, что не безнравственность вообще, не порочность или жестокость приводят людей в тюрьму и каторгу, а лишь определенные и вполне доказанные нарушения существующих в стране законов. Однако всем нам известно (и профессору тем более), что, например, пятьдесят лет назад, во времена «Записок из Мертвого Дома», в России существовал закон, по которому один человек владел другим как вещью, как скотом, и нарушение последним этого закона нередко влекло за собой ссылку в Сибирь и даже каторжные работы.