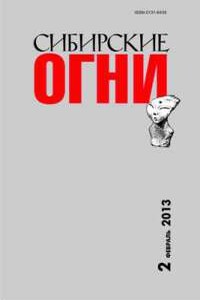Предатель любви - [8]
Нет, не таков был Батон. Пробежав без шапки по холодку метров тридцать, он опомнился и вернулся в дом. Зачем? По законам Зазеркалья следовало пришить всех свидетелей, и эта мысль мелькнула у Батона. Но пропала, лишь только он включил свет: в луже крови мычал и извивался Александр, дружок сидел в отупении, прислонясь к стене, и при виде Рената испуганно поднял руки. Детей не было видно, а их мать тихонько подвывала за печкой. Батон налил стакан водки, выпил его залпом, хрустнул яблоком и заорал: «Тихо, я сказал!» Он поочередно пнул невменяемого амбала и хозяйку, громко и членораздельно поставил задачу: сейчас он вызовет милицию, а они — скорую, а за все хорошее они покажут на следствии, что за нож первым схватился Александр… «А то убью. Честное пионерское», — он вытер лезвие финки о волосы амбала.
На суде свидетели подтвердили, что хозяин приревновал сожительницу и первым замахнулся ножом на безоружного гостя, а потом погас свет…
В результате вышеназванных грамотных действий со стороны Батона, спустя пяток лет, добродушно скалясь, Ренат хлопал меня по плечу, будучи на свободе и навеселе. Дело, по его разумению, не терпело промедления — он предлагал ехать к какой-то Алле к черту на кулички. Водкой и яблоками он уже затарился. Мне отводилась роль посредника или сводника. Короче, бред сивой кобылы. Или нет — дикого быка, влюбленного в Луну. Я отбоярился тем, чтобы грозный друг детства позвонил утречком, часиков в восемь-девять.
Гром прогремел по расписанию. Я схватил трубку и взглянул на часы. Батон орал на том конце провода, что мы «забили стрелку», назад ходу нет, и что он уже поймал частника. Еще Ренат просил взять паспорт. На всякий пожарный. «На очную ставку, что ль?» — буркнул я в трубку, зевнул и услышал в ответ квакающий смех.
Но чем ближе подъезжали мы к Дивизионке, тем жиже становился Ренатов смех. До железнодорожного переезда Батон, развалясь на переднем сиденье и жуя резинку, калейдоскопически изложил события последних лет, закончив свой рассказ резюме: «Фраернулся из-за бабы, понял?» Пока мы пережидали грохот товарняка, меня так и подмывало выйти из «жигулей» и уйти домой пешком, Батон обернул ко мне тревожное лицо: «Может, вина купить, а? Сухого? Все ж таки эта… женщина она…» И разозлился: «Перебьется!..»
Дом Аллы представлял из себя шлакозасыпной домик с кривым палисадником и большим огородом, сплошь засаженным картошкой и сорняком. Батон велел водителю обождать, не выключая мотор, минут пятнадцать. Открыл калитку, пнул бросившуюся под ноги дворняжку, постучал в дощатую, побитую сапогами дверь и поставил меня впереди себя. Выждав, я постучал еще раз. «Стучи, стучи, — дыхнул в затылок Батон. — Спят… На рынке она не работает, я узнавал».
Дверь открыла заспанная полуодетая девушка с синяком под глазом и жадно уставилась на винтовые колпачки бутылок, торчащие из пакета. «Мать где?» — рявкнул Батон. «А она болеет…» — хихикнула девица и прикрыла ладошкой выбитый зуб. Мы прошли внутрь.
Позднее увиденное Ренат охарактеризовал как бордель. Причем солдатского пошиба — у печки стояли кирзовые сапоги, на столе пустые бутылки и банки из-под армейской тушенки. Запах был, как в казарме поутру. Девушка, хихикая, скользнула в соседнюю комнату, там скрипнула кровать, и в проеме возникла стриженая лыбящаяся рожа с чубчиком: «А-а, водяра пожаловала!» Батон метко запустил сапогом в чубчик: «Цыть!», воткнул нож-финку с плексигласовой наборной ручкой в стол. И вояка-дембель гренадерского роста изобразил «цыть», едва попадая ногой в сапог и роняя портянки. Дверь хлопнула, в доме поднялась пыль.
— А кто эта тута раскомандовался? — возникло чучело женского рода.
Грязно-желтые волосы наполовину закрывали одутловатое синюшное лицо и выцветшие белесые глазки. Кажется, хозяйка так и спала в армейской засаленной телогрейке. Алла зевнула и процедила:
— А-а, так это ты, милок, шумишь? Уже откинулся, душегуб? Ловко! Ну, наливай, коли пришел, а то щас подохну…
Батон с грохотом смел со стола пустую тару, выставил водку и вывалил яблоки. Алла, не морщась, хлобыстнула стакан водки и начала стремительно пьянеть.
— А солдатика ты зазря в шею-то, Ренатик, — сообщила заплетающимся языком Алла, качаясь на табуретке. — Они, солдатики, они хорошие, они нам тушенки приносят… А ты чего не пьешь, Ренатик? Брезгуешь, да? На вот, полюбуйся, что ты с нами со всеми исделал, убивец… Вишь, какая Алка стала некрасивая… — Алла икнула и хихикнула, как дочь. — Знаем, знаем, зачем ты сюда пожаловал, знае-ем! А че, ежели шибко невтерпеж, то вон Людка завсегда… Она молодая, в соку, как это яблочко!
Людка хихикнула, как мать, подсела к столу и потянулась рукой с обломанными ногтями к бутылке, подмигивая синяком гостю. Батон дал ей оплеуху — Людка кубарем скатилась под стол — и заорал: «Младшая где, я сказал! Младшая где?»
Из-под вороха тряпья у печки вылезла девочка с грязной щекой, худющая, босая, шмыгнула носом. Батон, потерев о подкладку пиджака яблоко, протянул его младшей дочке.
Ренат дал мне денег на такси, уже на пороге я услышал его рык: «Кабы знал, что сопьетесь, в прошлый раз пришил бы, сучки!..»

Геннадий Башкуев родился в 1954 году. По образованию журналист, работал в газете «Молодежь Бурятии», на республиканском радио. Рассказы и повести Г. Башкуева обсуждались на XII конференции молодых и начинающих литераторов Бурятии, состоявшейся в 1985 году. На сцене Бурятского академического театра драмы им. X. Намсараева была поставлена пьеса «Климат резко континентальный».В журнале «Байкал» публикуется впервые.

УДК 821.161.1-1 ББК 84(2 Рос=Рус)6-44 М23 В оформлении обложки использована картина Давида Штейнберга Манович, Лера Первый и другие рассказы. — М., Русский Гулливер; Центр Современной Литературы, 2015. — 148 с. ISBN 978-5-91627-154-6 Проза Леры Манович как хороший утренний кофе. Она погружает в задумчивую бодрость и делает тебя соучастником тончайших переживаний героев, переданных немногими точными словами, я бы даже сказал — точными обиняками. Искусство нынче редкое, в котором чувствуются отголоски когда-то хорошо усвоенного Хэмингуэя, а то и Чехова.
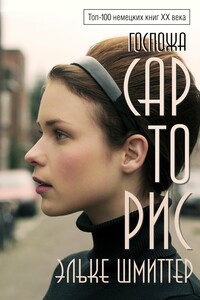
Поздно вечером на безлюдной улице машина насмерть сбивает человека. Водитель скрывается под проливным дождем. Маргарита Сарторис узнает об этом из газет. Это напоминает ей об истории, которая произошла с ней в прошлом и которая круто изменила ее монотонную провинциальную жизнь.
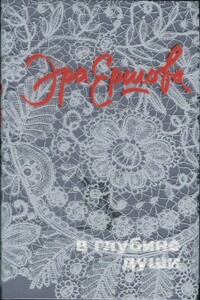
Вплоть до окончания войны юная Лизхен, работавшая на почте, спасала односельчан от самих себя — уничтожала доносы. Кто-то жаловался на неуплату налогов, кто-то — на неблагожелательные высказывания в адрес властей. Дядя Пауль доносил полиции о том, что в соседнем доме вдова прячет умственно отсталого сына, хотя по законам рейха все идиоты должны подлежать уничтожению. Под мельницей образовалось целое кладбище конвертов. Для чего люди делали это? Никто не требовал такой животной покорности системе, особенно здесь, в глуши.

Роман представляет собой исповедь женщины из народа, прожившей нелегкую, полную драматизма жизнь. Петрия, героиня романа, находит в себе силы противостоять злу, она идет к людям с добром и душевной щедростью. Вот почему ее непритязательные рассказы звучат как легенды, сплетаются в прекрасный «венок».

Андрей Виноградов – признанный мастер тонкой психологической прозы. Известный журналист, создатель Фонда эффективной политики, политтехнолог, переводчик, он был председателем правления РИА «Новости», директором издательства журнала «Огонек», участвовал в становлении «Видео Интернешнл». Этот роман – череда рассказов, рождающихся будто матрешки, один из другого. Забавные, откровенно смешные, фантастические, печальные истории сплетаются в причудливый неповторимо-увлекательный узор. События эти близки каждому, потому что они – эхо нашей обыденной, но такой непредсказуемой фантастической жизни… Содержит нецензурную брань!

Эзра Фолкнер верит, что каждого ожидает своя трагедия. И жизнь, какой бы заурядной она ни была, с того момента станет уникальной. Его собственная трагедия грянула, когда парню исполнилось семнадцать. Он был популярен в школе, успешен во всем и прекрасно играл в теннис. Но, возвращаясь с вечеринки, Эзра попал в автомобильную аварию. И все изменилось: его бросила любимая девушка, исчезли друзья, закончилась спортивная карьера. Похоже, что теория не работает – будущее не сулит ничего экстраординарного. А может, нечто необычное уже случилось, когда в класс вошла новенькая? С первого взгляда на нее стало ясно, что эта девушка заставит Эзру посмотреть на жизнь иначе.