Появление героя - [2]
В своем монументальном обзорном труде «История и чувство» Ян Плампер утверждает, что «у истоков истории эмоций стоял один человек – Люсьен Февр» (Plamper 2015: 40; ср.: Reddy 2010). Действительно, если Ницше лишь вскользь заметил, что человеческие страсти сами по себе имеют историю, то Февр в статьях «Психология и история» (1938) и, в особенности, «Чувствительность и история» (1941) попытался дать развернутый ответ на вопрос, «как воссоздать эмоциональную жизнь прошлого». Ключом к пониманию внутренней жизни людей минувших эпох была для него «заразительность» эмоции. По Февру, эмоции «зарождаются в сокровенных недрах личности», затем, в «результате схожих и одновременных реакций на потрясения, вызванных схожими ситуациями и контактами», они «обретают способность вызывать у всех присутствующих посредством некой миметической заразительности» сходный «эмоционально-моторный комплекс» и, наконец, благодаря «согласованности и одновременности эмоциональных реакций» «превращаются в некий общественный институт» и начинают «регламентироваться наподобие ритуала» (Февр 1991: 112).
Взгляды Февра на роль эмоций в истории были во многом противоположны тем, которые исповедовал Ницше. Ученый полагал, что в «развивающихся цивилизациях» происходит «более или менее постепенное подавление эмоций активностью интеллекта» (Там же, 113). В те же годы Норберт Элиас в своей книге «О процессе цивилизации» описал возникновение европейской цивилизации как становление практик контроля над проявлениями эмоций (см.: Элиас 2001). Концепции Февра и Элиаса были в значительной степени связаны с реакцией на нацизм с его, по словам Февра, «возвеличиванием первозданных чувств», которые «ставились выше культуры» (см.: Plamper 2015: 42–43 и др.).
Свою теорию «ментальности» Февр разработал с опорой на труды современных ему этнологов (см.: Гуревич 1991: 517–520). Заявленный им подход к истории чувств и переживаний также был первоначально реализован не в собственно исторических, но в этнологических, или, как их принято называть в англо-американской традиции, антропологических исследованиях. Решающую роль в этом процессе сыграли начавшие публиковаться в конце 1960-х – начале 1970-х годов работы Клиффорда Гирца, родоначальника так называемой интерпретативной (он также называл ее «семиотической» и «герменевтической») антропологии, который видел задачу антрополога в том, чтобы «приобрести доступ к категориям миропонимания изучаемых людей», понять смысл и значение, которыми они сами наделяют свое поведение. Как и Февр, Гирц полагал, что ученый способен судить о чувствах тех, о ком он пишет, поскольку сами эти чувства носят межличностный характер.
При этом, если Февр считал, что эмоции зарождаются в «сокровенных недрах личности», а распространяются «посредством некой миметической заразительности», американский антрополог был убежден, что сама способность человека чувствовать так, а не иначе определяется культурой, которой он принадлежит. По ставшей сенсационной формулировке Гирца, «наши идеи, наши ценности, наши действия, даже наши эмоции, так же как и сама наша нервная система, являются продуктами культуры» (Гирц 2004: 63; о реакции на это высказывание см.: Wierzbicka 1992: 135).
По мысли Гирца,
чтобы принимать решения, мы должны знать, что мы чувствуем по поводу тех или иных вещей, а чтобы знать, что мы чувствуем по их поводу, нам нужны публичные образы чувствования, которые нам могут дать только ритуал, миф и искусство (Гирц 2004: 96).
Еще резче сформулировала эти идеи ученица Гирца Мишель Розалдо, писавшая в своей нашумевшей статье «К антропологии личности и чувства»:
Чтобы понять личность, необходимо понять культурную форму. <…> Мы никогда не узнаем, почему люди чувствуют и поступают так, а не иначе, пока не отбросим повседневные представления о человеческой душе и не сосредоточим свой анализ на символах, которые люди используют для понимания жизни, символах, которые превращают наше сознание в сознание социальных существ (Rosaldo 1984: 141).
Во внутренний мир человека иной культуры оказывается возможным заглянуть именно благодаря тому, что сам этот внутренний мир представляет собой коллективное достояние. Такая постановка вопроса, по словам Гирца, переносит анализ проблематики, связанной с эмоциями, «из сумеречной, недоступной сферы внутренних чувств в хорошо освещенный мир доступных внешнему наблюдению вещей» (Гирц 1994: 113). Эмоции, с одной стороны, оказываются доступны наблюдению исследователя, а с другой – становятся значимым фактором исторического процесса.
Только в 1980-х годах такой подход вернулся в историческую науку (обзор основных работ по антропологии эмоций см.: Reddy 2001: 34–62; по исторической антропологии: Берк 2002; см. также: Гуревич 2002 и др.), приведя к становлению дисциплины, получившей название «история эмоций» (см.: Burke 2004: 108)[1]. Именно на достижения антропологов опирались американские историки Питер и Кэрол Стирнз в статье 1985 года «Эмоционология: проясняя историю эмоций и эмоциональных стандартов», которая, как принято считать, подвела итоги первого, бессистемного периода в истории этой научной дисциплины и заложила теоретические основы ее последующего развития (см.: Plamper 2015: 57–59). Как подчеркивают авторы,

Сборник научных работ посвящен проблеме рассказывания, демонстрации и переживания исторического процесса. Авторы книги — известные филологи, историки общества и искусства из России, ближнего и дальнего зарубежья — подходят к этой теме с самых разных сторон и пользуются при ее анализе различными методами. Границы художественного и документального, литературные приемы при описании исторических событий, принципы нарратологии, (авто)биография как нарратив, идеи Ю. М. Лотмана в контексте истории философского и гуманитарного знания — это далеко не все проблемы, которые рассматриваются в статьях.

Представление об «особом пути» может быть отнесено к одному из «вечных» и одновременно чисто «русских» сценариев национальной идентификации. В этом сборнике мы хотели бы развеять эту иллюзию, указав на относительно недавний генезис и интеллектуальную траекторию идиомы Sonderweg. Впервые публикуемые на русском языке тексты ведущих немецких и английских историков, изучавших историю довоенной Германии в перспективе нацистской катастрофы, открывают новые возможности продуктивного использования метафоры «особого пути» — в качестве основы для современной историографической методологии.

Поздняя проза Леонида Зорина (1924–2020) написана человеком, которому перевалило за 90, но это действительно проза, а не просто мемуары много видевшего и пережившего литератора, знаменитого драматурга, чьи пьесы украшают и по сей день театральную сцену, а замечательный фильм «Покровский ворота», снятый по его сценарию, остается любимым для многих поколений. Не будет преувеличением сказать, что это – интеллектуальная проза, насыщенная самыми главными вопросами – о сущности человека, о буднях и праздниках, об удачах и неудачах, о каверзах истории, о любви, о смерти, приближение и неотвратимость которой автор чувствует все острей, что создает в книге особое экзистенциальное напряжение.

Лев Толстой давно стал визитной карточкой русской культуры, но в современной России его восприятие нередко затуманено стереотипами, идущими от советской традиции, – школьным преподаванием, желанием противопоставить Толстого-художника Толстому-мыслителю. Между тем именно сегодня Толстой поразительно актуален: идея ненасильственного сопротивления, вегетарианство, дауншифтинг, требование отказа от военной службы, борьба за сохранение природы, отношение к любви и к сексуальности – все, что казалось его странностью, становится мировым интеллектуальным мейнстримом.

Запись программы из цикла "ACADEMIA". Доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой славистики Оксфордского университета Андрей Леонидович Зорин рассказывает о трансформационном рывке в русской истории XIX века, принятии и осмыслении новых культурных веяний, приходящих с европейскими произведениями литературы и искусства.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге приведен библиографический список наиболее важных работ о жизни и творчестве Лермонтова. Он поможет ориентироваться в обширной литературе предмета, облегчит нахождение необходимых справок и будет способствовать дальнейшему углубленному изучению наследия писателя. Он должен также дать представление о направлениях в науке о Лермонтове и о деятельности отдельных ученых-лермонтоведов.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Книга французского исследователя посвящена взаимоотношениям человека и собаки. По мнению автора, собака — животное уникальное, ее изучение зачастую может дать гораздо больше знаний о человеке, нежели научные изыскания в области дисциплин сугубо гуманитарных. Автор проблематизирует целый ряд вопросов, ответы на которые привычно кажутся само собой разумеющимися: особенности эволюционного происхождения вида, стратегии одомашнивания и/или самостоятельная адаптация собаки к условиям жизни в одной нише с человеком и т. д.
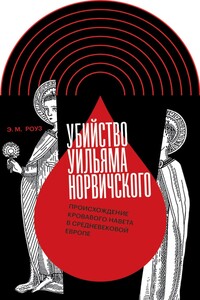
В 1144 году возле стен Норвича, города в Восточной Англии, был найден изувеченный труп молодого подмастерья Уильяма. По городу, а вскоре и за его пределами прошла молва, будто убийство – дело рук евреев, желавших надругаться над христианской верой. Именно с этого события ведет свою историю кровавый навет – обвинение евреев в практике ритуальных убийств христиан. В своей книге американская исследовательница Эмили Роуз впервые подробно изучила первоисточник одного из самых мрачных антисемитских мифов, веками процветавшего в массовом сознании.

Книга посвящена литературным и, как правило, остро полемичным опытам императрицы Екатерины II, отражавшим и воплощавшим проводимую ею политику. Царица правила с помощью не только указов, но и литературного пера, превращая литературу в политику и одновременно перенося модную европейскую парадигму «писатель на троне» на русскую почву. Желая стать легитимным членом европейской «république des letteres», Екатерина тщательно готовила интеллектуальные круги Европы к восприятию своих текстов, привлекая к их обсуждению Вольтера, Дидро, Гримма, приглашая на театральные представления своих пьес дипломатов и особо важных иностранных гостей.

Для русской интеллектуальной истории «Философические письма» Петра Чаадаева и сама фигура автора имеют первостепенное значение. Официально объявленный умалишенным за свои идеи, Чаадаев пользуется репутацией одного из самых известных и востребованных отечественных философов, которого исследователи то объявляют отцом-основателем западничества с его критическим взглядом на настоящее и будущее России, то прочат славу пророка славянофильства с его верой в грядущее величие страны. Но что если взглянуть на эти тексты и самого Чаадаева иначе? Глубоко погружаясь в интеллектуальную жизнь 1830-х годов, М.