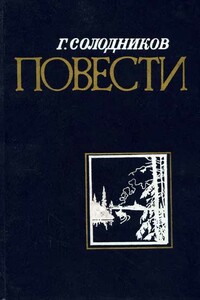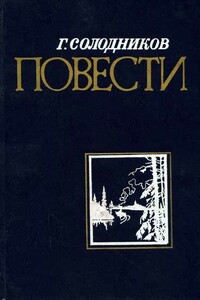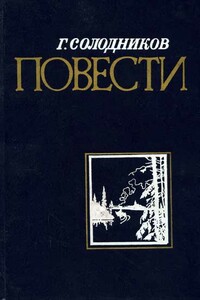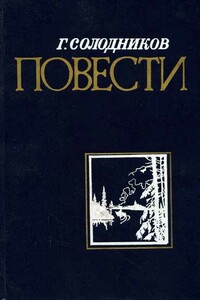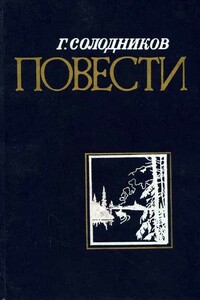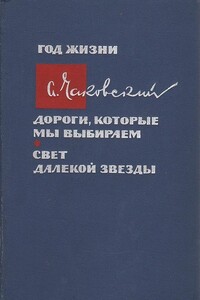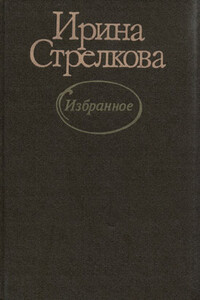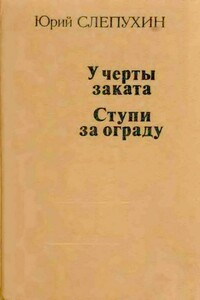— Это с собой возьмите. Сейчас я во что-нибудь заверну.
— Ну нет, хозяюшка! Кормить корми, а в запас не навеливай. — Федя перевел взгляд на двух маленьких девчушек, что все время крутились на дворе, пока они метали сено, а теперь сидели на лавке в уголке притихшие, зыркая глазенками на незнакомых людей. Помолчал, снова посмотрел на хозяйку, на детей, видимо, набирался духу задать вопрос, который мог оказаться слишком больным.
— Сам-то как? Жив-здоров?
— Ой, слава богу! — встрепенулась хозяйка. — Всю войну на Дальнем Востоке пробыл. Жду вот. Может, вернется вскорости. — Она приподняла бутылку, прижала ее к груди, помешкала малость, затаенно чему-то улыбаясь, и стала наливать в Федин стакан. Он остановил ее на половине, отвел бутылку рукой.
— Налей-ка лучше себе, да выпьем за его скорое возвращение.
И во второй раз Федя позволил налить себе только-только полстакана и на этом вовсе остановился. Сколько ни упрашивала хозяйка, он решительно поднялся из-за стола.
— Сохрани, не прокиснет. Вернется муженек — понадобится.
Когда они скорым шагом шли проселком к реке и уже скрылась за угором деревенька, Федя емко вздохнул, крутнул лобастой головой:
— Вот и на душе вроде полегчало — счастливую солдатку повидал… И сам цел-невредим. Работаю, ем, пью, по земле хожу. Твердо хожу. Вот она, родимая, гудит у меня под сапогами. Это ли не счастье для человека! — Федя даже приостановился, по-шальному глянул вокруг, раскатился легким смешком и тут же оборвал его, словно на горящую спичку дунул. Но, видимо, долго еще стояли перед его глазами недавняя работа, председательская семья, оставленная за столом. Уже подходили к реке — он неожиданно охватил Лешкино плечо рукой, притиснул к себе и враз отпустил, застеснявшись невольного жеста.
— Мужичье мы, мужичье. Каких только охламонов среди нас нет и что только о нас, грешных, не думают! Вот ведь уверена была, иначе и не представляла: набросимся на ее кумышку, вылакаем всю до капельки да еще выпросим добавку-посошок. Как же иначе-то… А на самом деле сколько нашего брата непьющих. Иные вон совсем в рот не берут. Но я таким не ставлю это в заслугу. Не за что их возвеличивать… Я тех уважаю, кому она знакома хорошо и льется-катится лучше некуда. Но кто не просто там умеренничает, а в любой ситуации может подавить свое желание. Глядит на нее, томится, слюни глотает, но так зажмет себя, узлом завяжет и — откажется. Ты, Леха, не привык и не привыкай. Ну ее к бабушке в старый валенок. А если что… Будь готов, чтоб не она тобой, а ты ею помыкал… Жизнь у тебя впереди длинная.
Теперь, плеснув Лешке «капелюшечку», Федя долго вертел стакан, полировал его наждачными пальцами и все смотрел и смотрел куда-то мимо Лешки, в иллюминатор. И наверняка был далеко-далеко и от землечерпалки, и от родной Камы, от всего этого обжитого и мирного края. Лешка почему-то решил, что мыслями он сейчас в старом времени, со своими корешами, на самом дальнем флоте. А Федя тюкнул своим стаканом в кромку Лешкиного и сказал:
— Держи. За то, чтоб дома был мужик председателя. Помнишь председательшу-то? Радовалась и знать не знала, что вскорости ему судьба в войне с Японией тоже свое отмерит… Чтоб его пуля там не нашла! Чтоб бабе счастье не изменило! Это ведь хуже нет — после твердой надежды похоронку получить.
Поразился Лешка такому совпадению: сидели, молчали, а думали об одном и том же. Подивился и со всей силой нерастраченного юношеского чувства пожелал, чтоб все было так, как сказал Федя; Чтоб искрились глазенки тех двух девчушек — от радости, любопытства и непонятного сладкого страха, — когда их притянет к себе крепкими руками такой родной и такой незнакомый отец.
Они бы, наверное, еще посидели молча или Федя что-нибудь порассказывал, повспоминал вслух, но трап загудел под чьими-то ногами и в каюту заглянул Борис Зуйкин.
— Разрешите, Федор Кириллыч? О-о, да здесь маленький сабантуй. Позволите и мне присоединиться?
— Да уж нет ничего. Можно сказать, и не было, — ответил Федя, чуть приметно улыбаясь одними глазами. — Подвел тебя нюх. Опоздал.
— Фе-едор Кириллыч, — дурашливо затянул Борис, почувствовав затаенное благодушие багермейстера. — Мне ж немного, для сугреву, продрог наверху.
— Какой ты непонятливый, однако. Сказано: нет. Да и было бы — все равно не получил. Нельзя. — Искорки в Фединых глазах потухли, он весь подобрался на стуле, выпрямился.
— А ему можно? — обиженно кивнул Зуйкин в сторону Лешки.
— Ты, наверное, хотел спросить: можно ли мне? Дудареву ведь на вахту лишь в четыре утра. Да и знаешь отлично: не балуется он… И за себя отвечу, хотя не обязан отчитываться перед тобой. До моей вахты еще целых два часа. Кстати, и сейчас к пульту встать могу. Ну, уж если что не так, в самую темень Лешка постоит со мной: глаз у него острый. Зато я потом дам ему лишнего поспать. Уразумел?
— Ничего такого я и не думал, — заюлил Зуйкин. — А вы уж сразу — на все обороты. Подумаешь, попросил малость.
— Слушай, Зуйкин, — стал терять терпение Федя, — ну в кого ты такой неистребимо настырный? Другой на твоем месте давно бы ушел. Из приличия. Из самолюбия, в конце концов… А ты… Как бабий пуп — его трут, мнут, а он все тут. Элементарные правила нарушаешь — рубку нельзя оставлять надолго. И машину вот-вот запустят.