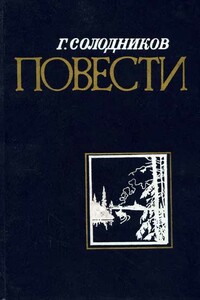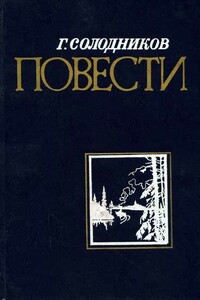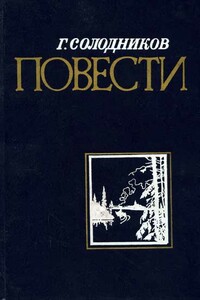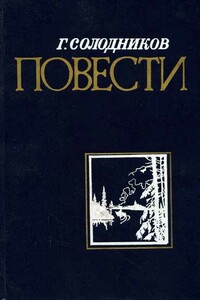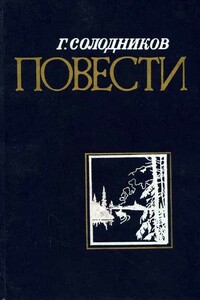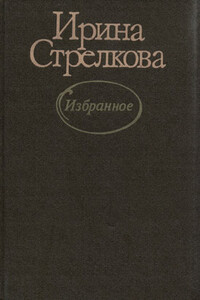Повести - [67]
— Здравствуй, сынок.
На них сразу стали обращать внимание, оглядываться. Ребята расступились, и вокруг образовалась пустота. Пашка засмущался, боялся смотреть в стороны. Да и отцу, верно, было неловко от окружающего многолюдья. Непривычной скороговоркой он передал поклоны и приветы от родни. Сообщил, что в кои-то годы вот собрался в город: надо кое-что купить для дома по мелочам, навестить свою племянницу, Пашкину крестную, у которой не бывал с войны. Пашка слушал рассеянно, вполуха, пока не прозвенел спасительный звонок и курсанты не разошлись по аудиториям.
Они сидели в самом углу курилки на скамье, и никто им теперь не мешал, во всяком случае, до ближайшего перерыва. Все уже было переговорено, выспрошено, да особо и не о чем рассказывать — Пашка писал домой исправно. И вот тут-то отец лукаво глянул на Пашку, положил мешок себе на колени, зачем-то огладил его и неторопливо стал развязывать.
— А я тебе обновку привез. Дядя твой, Афанасий, сшил. Запасливый мужик. Достал из загашника настоящее шевро. Хоть и по-родственному, а взял с нас — будь здоров! Ну, да ты небось заработал за лето.
Пашка, еще не понимая, о чем это он, внимательно следил за руками отца, начиная заинтересовываться.
Отец достал из мешка сапоги… Не то слово — сапоги. Сапожки! Игрушечки! Коричневые, отливающие темно-вишневым, они бархатисто лоснились. Именно лоснились, а не просто сверкали отполированным блеском. Кожа на них была поставлена настолько мягкая и нежная, что голенища совершенно не держались стоймя, вольно опадали, струились в отцовских руках. Не сапоги — мечта любого парня на деревне. Их не надо было насильственно сжимать гармошкой, чтоб выглядели помоднее. Такое голенище натянул втугую, огладил обеими руками снизу вверх — от щиколотки до икры, — потом чуточку давнул вниз — и получай сколько хочешь складок. Форменные «прохоря», как любовно, по-особому небрежно-восхищенно навеличивали парни добрые хромовые сапоги… Подметки были из настоящей кожи телесного цвета, поставлены были не на какие-то гвоздики, хотя бы и медные, а на дубовые шпильки. Износу таким нет.
Отец долго ласкал их, осторожно мял своими заскорузлыми пальцами, легонько встряхивал, прежде чем передать Пашке. Чувствовалось, что жаль ему отдавать их: будь помоложе, и сам бы еще не прочь пофасонить в таких.
Пашка взял один сапог, примеряясь, приставил к ноге, вздохнул и положил его обратно к отцу на колени.
— Спасибо… Только они мне теперь ни к чему. Раньше-то не могли сшить, когда я по поселку в лаптях шлепал?
Отец, до этого любовно смотревший поочередно на сапоги и на Пашку, улыбающийся, довольный своим подарком, наверное, считавший себя наконец в расчете с сыном за нелегкое лето, вдруг посерел лицом.
— Да когда раньше-то? Сам пойми, где бы я деньги такие взял. А тут собрали окончательный расчет с народа после пастьбы.
Один сапог выскользнул у него из-под руки, стукнулся об пол. Он не торопился его поднимать, растерянно потянулся к шапке, зачем-то снял ее.
— Да как же это так… Да что это… О-хо-хо! Обмишурился-то, елки-моталки! И что же, совсем они тебе не понадобятся?
— Не положены нам сапоги. У нас же форма — сам видел. Целых четыре года ее носить. Так что…
— Вот незадача! Я-то Афанасия обхаживал, уламывал. Знал бы…
Отец провел рукой по своим редеющим волосам, посидел молча. Потом встрепенулся, полез во внутренний карман.
— Не горюй, сынок. Это Дело поправимое. Вот тебе на всякие расходы-удовольствия. А с сапогами на рынок придется.
Он выдал потертую сотенную бумажку и сразу заторопился, стал увязывать свой мешок.
Пашка проводил его за ворота. Постояли еще немного, помолчали. День был унылый, слякотный. Небо нависло дымно-серое, тяжелое. Сыпалась снежная морось. Пашка выскочил без шинели, в одной фланелевке, и теперь нетерпеливо ежился, знобко вздрагивал, прятал руки в карманы брюк.
— Ступай, сынок, а то застудишься, — сказал отец, отвел глаза и зашагал по улице к невидимой за спуском трамвайной остановке.
Почти тридцать лет, долгих тридцать лет минуло с той поры. Не думал, не предполагал Павел Евдокимович, что многое из тех прожитых дней всплывет так ясно, отчетливо до мелочей, как будто происходило все год-два назад, а может, и того меньше — в позапрошлом месяце. Странная эта память: что-то сохранила зримо, хотя и без красок, словно рисунок пером, а что-то осталось расплывчатым, акварельным, — лишь одно настроение, чувственный отголосок пережитого без четких очертаний и форм.
Вечером он смотрел по телевизору хоккей — одну из последних игр чемпионата страны. Вольно лежал на диване, в тепле и уюте, следил за ледовой схваткой, в меру переживал за «Спартак», взволнованно ерзал при острых моментах, досадливо мычал, охал. Но все это как-то не всерьез, можно сказать, в четверть силы. Происходящее было далеко, отстранение от него и потому, может, не задевало в полной мере. И казалось Павлу Евдокимовичу, что даже зрители в ледовом Дворце, удобно рассевшиеся на нумерованных просторных местах, оставившие верхнюю одежду в раздевалке, разнеженные удобством, болеют вяло, без должного азарта.
Вспомнилось ему не такое уж далекое время, когда их местная команда еще принимала на своем поле прославленных московских хоккеистов, тот же «Спартак», с братьями Майоровыми, со Старшиновым. Крытого ледового стадиона тогда еще не было. Скрипучие деревянные трибуны забивались стоячими зрителями вплотную от нижнего яруса до самого верхнего. Не просто выдержать два часа на ветру и морозе, но на хоккей ходили как на праздник. Заранее договаривались, созванивались друг с другом. Тюриков тогда жил не в новом жилом массиве, почти сельском пригороде, а неподалеку от стадиона, и чаще всего перед игрой собирались у него. Ах, эти сборы на хоккей! Теплые носки, валенки, сорок одежек под пальто… Подгорячившись на дорожку, потолстевшие, неуклюжие, плотной кучкой, словно настраиваясь на предстоящую тесноту, дружно шли они на стадион. И там, зажатые такими же болельщиками, будто цепью скованные в длинные, прочные ряды, они словно растворялись, переставали ощущать себя по отдельности. Была одна монолитная масса. Она мерно и враз раскачивалась вправо, влево, притопывала, приплясывала и единой глоткой, единым вдохом-выдохом орала, азартно подбадривая своих игроков: «Шай-бу! Шай-бу!» И когда приходила удача, когда за воротами москвичей вспыхивала красная лампочка — тут вот, внизу, под тобой, живая и, казалось, теплая — появлялась заветная плоская фляжка, и пластмассовый стаканчик отправлялся гулять по их тесному, дружному кругу, согревая и душу и кровь.

В этой книге есть любовь и печаль, есть горькие судьбы и светлые воспоминания, и написал ее человек, чья молодость и расцвет творчества пришлись на 60-е годы. Автор оттуда, из тех лет, и говорит с нами — не судорожной, с перехватом злобы или отчаяния современной речью, а еще спокойной, чуть глуховатой от невеселого знания, но чистой, уважительной, достойной — и такой щемяще русской… Он изменился, конечно, автор. Он подошел к своему 60-летию. А книги, написанные искренне и от всей души, — не состарились: не были они конъюнктурными! Ведь речь в них шла о вещах вечных — о любви и печали, о горьких судьбах и светлых воспоминаниях, — все это есть, до сих пор есть в нашей жизни.

«В обед, с половины второго, у поселкового магазина собирается народ: старухи с кошелками, ребятишки с зажатыми в кулак деньгами, двое-трое помятых мужчин с неясными намерениями…».
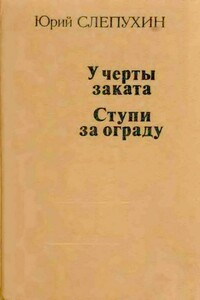
В однотомник ленинградского прозаика Юрия Слепухина вошли два романа. В первом из них писатель раскрывает трагическую судьбу прогрессивного художника, живущего в Аргентине. Вынужденный пойти на сделку с собственной совестью и заняться выполнением заказов на потребу боссов от искусства, он понимает, что ступил на гибельный путь, но понимает это слишком поздно.Во втором романе раскрывается широкая панорама жизни молодой американской интеллигенции середины пятидесятых годов.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.