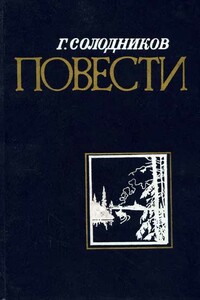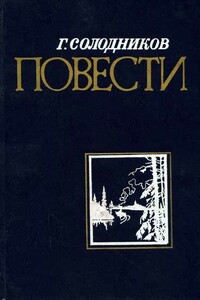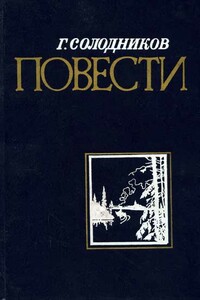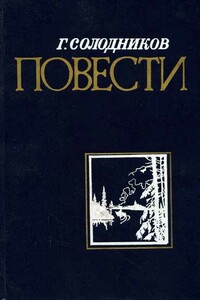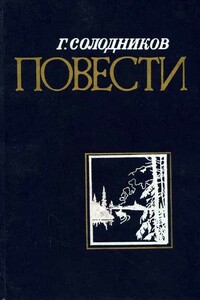Повести - [60]
Чудно было слушать Пашке стариковские рассуждения. Вроде бы все складно да ладно у него получается, а так ли это на самом деле — уж самому надо разбираться. И не враз — не день, не два, может, всю жизнь.
Старик словно почувствовал Пашкины сомнения.
— Ты слушай, слушай. Не пофыркивай… Вот войну возьми. Смерть каждый день на глазах. А не на смерть, так на изуродованных насмотришься. Не страшно, думаешь? Еще какая страхота! У иных, бывает, и до тошноты, до истерики дело доходит. И я боялся. Ох как боялся! Это на первой еще, империалистической, с германцами… Потом как-то в голову мне пришло: я, человек, боюсь его. Он, враг, — тоже ведь человек! И он меня боится нисколь не меньше. Значит, он так же слаб, как и я! И поубавилось у меня страха к нему, наоборот, побольше нагнать страху на него самого захотелось… Свои слабости разгляди в другом и ими же пользуйся… Только во благо. Тут уж я про доброту. Ты правильно пойми меня. Человек по натуре так же и добр. Вот и бери его на доброту, он на добро добром должен откликнуться.
Так и шли они вдвоем через сонные деревни, мимо подернутых туманом болотин, по мосточкам через заиленные речушки, по сосновым угорам, уже заполняемым ранним птичьим гамом.
Остановились у родника с полусгнившим срубом и потемневшим берестяным черпачком. Здесь и встретили неяркий солнцевосход. Старик достал из своего заплечного мешка кружку, завернутую в тряпочку соль и засохшую хлебную краюшку.
— Домашний еще, старуха на дорогу испекла. — Разломил хлеб пополам, протянул половину Пашке. — Давай-ка подкрепись малость, веселей шагать будет.
Он мочил свой кусок в кружке с родниковой водой, макал его в соль и не спеша жевал, подолгу не отнимая от рта и причмокивая, словно посасывал.
— И-и-эх, поистерлись зубы, повыпадывали. Можно сказать, одними деснами хлебушек мумляю. Да и то ладно — оправляюсь как-никак. Мясо-то все равно попадает редко. Хоть молочко свое, вдоволь — и слава богу.
Старик вскинул было сложенные щепотью пальцы ко лбу, но тут же опустил и протяжно вздохнул:
— О-хо-хо, грехи наши тяжкие… Ты вот дернулся — видел я, видел, не отпирайся, — когда напомнил тебе, что в подпасках ходишь. Не по нраву дело — чувствую и понимаю. А рассуди-ко, мил человек, по-здравому. Ведь большой смысл в работе твоей. Худо-бедно людей по-своему кормишь. Посчитай — скольких! Одних ребятишек орава какая. А иначе как на них молока напасешься? Колхозного-то вон даже городским толком не хватает. А поить-кормить всех надо, святым духом никто не живет. Вот что бы вы сами без коровы делали, а? Есть ведь она у вас?.. Есть. Так и думал. То-то! И пасли ее для вас, для тебя, сколько ты жив, какие-то люди, поили молочком. А теперь ты сам для других стараешься, ну и себе, конечно, зарабатываешь на пропитание. А как же иначе? Как в согласном муравейнике: каждый — друг для друга, а значит, и для себя… Всяк труд полезен и почетен, если он на пользу людям. А то есть еще у нас мудрые головушки, умники-заумники: дескать, колхозное стадо пасешь — молодец. А ежели мирское, поселковое — на частный сектор горб, гнешь. От лукавого все это, от недомыслия нашего…
От журчливых разговоров старика-попутчика, от его смиренного, благостного вида, от покойно разгоравшегося утра у Пашки на душе стало светло и чисто. Мнилось ему, что часто будет с ним так — и добрые случайные попутчики, и ровные дороги с ясной целью в конце пути. Только не надо избегать неизведанного, не страшиться в жизни перемен, не лежать обомшелым камнем на обочине.
Они молча расстались со стариком на окраине поселка. Пашка пошел дальше из улочки в улочку и спустился на плотину. Навстречу ему уже вовсю пылило стадо. Сонное мычание, перезвон разномастных колоколец, ленивая поступь коров по крупногалечному большаку знакомо заполнили Пашкин слух и окончательно вернули его домой, в привычную обстановку. Родную до боли, до сладкого жжения внутри, но одновременно как бы уже отдалившуюся, ставшую неживой картинкой, слегка затуманенной, словно припорошенной пылью из-под многих десятков широких расщепленных копыт.
Пастушата встретили Пашку как ни в чем не бывало.
— Здорово.
— Здорово.
— Ну что, взяли тебя в матросы? — усмехнулся Толяс.
— Не в матросы, а курсантом в училище, — поправил его Зинка и тут же махнул рукой: стоит ли объяснять.
Отец подошел, сдерживая заинтересованность и готовую вот-вот проклюнуться улыбку.
— Да ты никак из Борков! На пароходе решил прокатиться — привыкаешь? А не забоялся пешком?
— Да нет. Чего бояться?
— Поступил хоть?
— Поступил.
— Ну-ну, посмотрим, что дальше. Насовсем-то скоро?
— Дней через десять, как вызов придет.
— Гулять будешь или как?
Пашка почувствовал, что отец уже заранее дал себе ответ. Нисколько не сомневается в том, что он проведет последние денечки с друзьями. Что-то воспротивилось в нем, захотелось поступить наперекор, по-своему. Тем более что теперь можно было решать за себя самому, без какого-либо нажима со стороны. И он ответил спокойно, просто, будто у него все продумано давным-давно.
— Да нет. Сегодня побегаю день, а завтра пасти выйду.
17
Пашке не терпелось увидеться с ребятами, но мать долго не отпускала его. Дотошно выспрашивала про городское житье, про порядки в училище, о которых он толком не знал еще сам. Нажарила вволю молодой картошки, поставила перед ним большую кружку молока и уселась напротив, пригорюнившись, подперев голову рукой. Смотрела вроде бы на него и в то же время куда-то мимо, словно старалась заглянуть в неведомое, разглядеть там что-то важное, кровно необходимое ей. Глаза ее порой тускнели, затягивались пеленой, потом вдруг разом теплели, разгорались ласково, когда она смотрела на Пашку в упор, снова грустнели и становились влажными. Пашке не по себе стало под ее взглядом, недавнее чувство взрослости улетучилось, он даже ростом вроде стал меньше, съежился, ощутил свою беззащитность. Состояние было такое, словно он в чем-то обманул мать, обидел ненароком, заставил горевать. И настроение у него тоже переменилось, спуталось. Не было уж прежней радости от предвкушения скорого отъезда, перемешалась она с легким сожалением, с грустью предстоящего расставания, с полуосознанным пониманием того, что так вот сидеть с матерью вдвоем ему доведется не скоро и случаться такое будет не часто.

В этой книге есть любовь и печаль, есть горькие судьбы и светлые воспоминания, и написал ее человек, чья молодость и расцвет творчества пришлись на 60-е годы. Автор оттуда, из тех лет, и говорит с нами — не судорожной, с перехватом злобы или отчаяния современной речью, а еще спокойной, чуть глуховатой от невеселого знания, но чистой, уважительной, достойной — и такой щемяще русской… Он изменился, конечно, автор. Он подошел к своему 60-летию. А книги, написанные искренне и от всей души, — не состарились: не были они конъюнктурными! Ведь речь в них шла о вещах вечных — о любви и печали, о горьких судьбах и светлых воспоминаниях, — все это есть, до сих пор есть в нашей жизни.
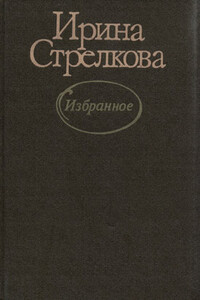
«Появление первой синички означало, что в Москве глубокая осень, Алексею Александровичу пора в привычную дорогу. Алексей Александрович отправляется в свою юность, в отчий дом, где честно прожили свой век несколько поколений Кашиных».
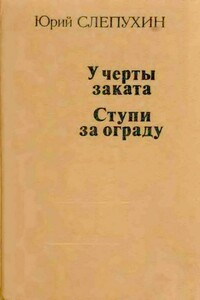
В однотомник ленинградского прозаика Юрия Слепухина вошли два романа. В первом из них писатель раскрывает трагическую судьбу прогрессивного художника, живущего в Аргентине. Вынужденный пойти на сделку с собственной совестью и заняться выполнением заказов на потребу боссов от искусства, он понимает, что ступил на гибельный путь, но понимает это слишком поздно.Во втором романе раскрывается широкая панорама жизни молодой американской интеллигенции середины пятидесятых годов.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

…Человеку по-настоящему интересен только человек. И автора куда больше романских соборов, готических колоколен и часовен привлекал многоугольник семейной жизни его гостеприимных французских хозяев.