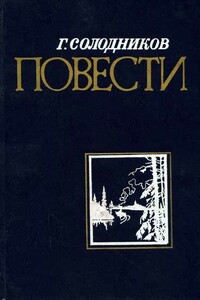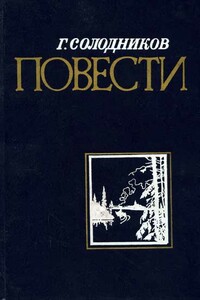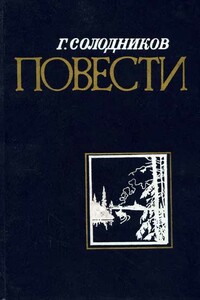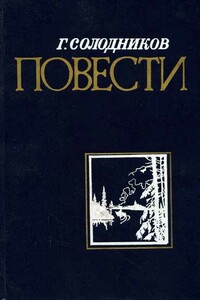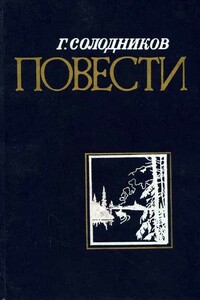На берегу реки, неподалеку от бараков сплавщиков, стояла рубленная из лиственничных кряжей избушка. Даже в самый жаркий день в ней было прохладно и сумеречно. Неяркий свет прибивался сквозь единственное крошечное оконце и освещал широкую, приземистую печку с массивной чугунной плитой. Над печью на металлическом стержне висело с десяток гнутых из толстой проволоки рамок-вешал. Здесь когда-то прожаривали одежду только что прибывших с разных концов России вербованных. А теперь это было место наших игр.
Мы любили избушку за ее музыкальность. Каждая рамка, если по ней ударить чем-нибудь железным, пела на свой лад. А если одновременно еще и передвигать рамки по стержню, то поднимался такой звон и металлический визг, что в поселке начинали лаять собаки.
Вот здесь-то, в этой избушке, и затянулся я впервые папироской «Наша марка». У одного пацана дома собирали посылку старшему брату в армию, и он расстарался… Вкус первой затяжки, аромат сгорающего табака были для меня совершенно новыми, незнакомыми — первородными. Тогда мне было лет семь. Позднее я папиросами не баловался и потихоньку начал курить в семнадцать.
Мне было семь, а сыну моему десять. Я смотрю на него и удивляюсь. Как умело он делает первые размашистые шаги, как несется с горы, присев и собравшись весь, как распластывается над лыжами о свободном полете, как уверенно приземляется и тормозит. Мне хочется вспомнить себя в его годы.
Теперь возвращаюсь в прошлое не сразу.
Живем уже в городке… Третий класс… А-а-а…
Новогодняя елка в школе. Веселье уже закончено, нам раздают подарки, каждому в своем матерчатом мешочке. Наши матери приготовили их заранее и на каждом вышили фамилию. Уже темно, мороз за тридцать, до дому далеко, и я очень тороплюсь. Нет, я не боюсь ни мороза, ни темноты. Мне страшно оттого, что вдруг отнимут заветный мешочек. А это дело такое простое и обычное… Мне бы спрятать мешочек под ватник, за пазуху, а я сжал его правой рукой за устье и бегу, бегу без оглядки.
Не знаю, но почему-то с собой не было рукавичек, и когда я прибежал домой, с трудом разжал руку. Кончики пальцев побелели и онемели. Я долго оттирал их снегом, отмачивал под умывальником студеной водой. Наконец они ожили и так заныли, что я долго не мог унять слез. Тут уж было не до мешочка с гостинцами…
До сих пор в морозы даже в меховых перчатках у меня мозжат кончики пальцев на правой руке.
А лыжи? Одно время лыжами у многих из нас были горбатые, заостренные доски — клепка от больших бочек. К ним прилаживали веревочные петли и гоняли с гор. Впрочем, гоняли — это не точно: мы на них падали даже с маленьких горок.
Позднее с одним парнем, понимающим кое-что в столярном деле, мы сами сделали лыжи. Вытесали их из березовых досок, прожгли отверстия для петель, просверлили дырочки на носках. Потом долго парили в чугуне с кипятком, загнули в дверном притворе и стянули ременными шнурками, пропустив их сквозь дырочки в носках и отверстия для креплений. Только они у нас вскоре почему-то снова разогнулись…
Сережка ничего этого не знает. Вон ему и на хороших-то лыжах прыгать, видно, надоело. Он стоит внизу и кричит. Давно, наверное, кричит:
— Па-а-ап! Давай сюда… Прыгай где я!
Насчет прыгать я и мысли не имею. Мне бы скатиться рядом с трамплином, да не просто, скатиться, а так, чтобы не было стыдно перед сыном. Я съезжаю, на мой взгляд, неплохо, и мы идем с Сережкой в глубь леса слушать тишину…
Домой мы возвращаемся вечером. Когда пересекаем ближний к дому пустырь, в небе уже прорезаются первые звезды. Снег вокруг нас с густой просинью, тусклый, только отблескивает леденистая лыжня. Здесь она прямая, видна далеко-далеко и теряется возле домов двумя тонкими серебряными ниточками.
Сережка идет впереди меня. Я нарочно пропустил сына, чтобы не ему к моим, а мне надо было приноравливаться к его шагам. Мы медленно двигаемся к домам. Еще смутно-смутно я начинаю понимать, что все мы в одной связке: мое детство, теперешний я, Сережка. И, не будь нашего сегодняшнего похода в лес, об этой связочке я, вероятно, так и не подумал бы.
…Прошел месяц. Как-то утром мне пришлось будить Сережку: ему нужно было в школу раньше обычного. Я Долго смотрел на него, ходил около и смотрел. Мне так не хотелось поднимать сына. Ведь маленький еще, ребенок, пусть поспит. Но тут же остановил себя.
В десять лет мы, как заправские сплавщики, прыгали по движущимся заторам. На десятки километров уходили в лес, за рыбой на дикие озера. Носили ягоды, грибы, шишкарили по кедрачам.
Десять лет — это же много! Почему тогда я считаю своего Сережку еще совсем маленьким? Ведь у него, как и у меня тогдашнего, уже есть своя жизнь, свой мир. Он маленький лишь по сравнению со мной…
Вот тут-то я впервые сам понял, почему тридцатилетних (да что там — пятидесятилетних!) престарелые родители не перестают считать детьми.
И привела меня к этому маленькая ниточка из неразрывной связки — зимняя лыжня.