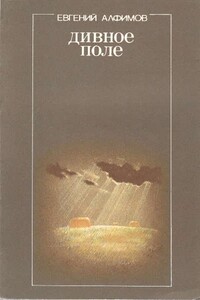Повести и рассказы - [13]
— Устал небось, Мишатка? Садись-ка вечерять, я на стол соберу, молочком парным напою....
Легонькими ладошками она погладила Топоркова по груди, чуть поднялась на цыпочках, сняла кепку и потеребила вихры:
— Припылился на тракторе-то, ишь кудряшки слежались да припотели! Работничек мой!
Ее кругленькое, в мелких морщинках, по-детски улыбчатое личико светилось успокоенно; и глаза — молодые, совсем не старческие, иссиня чистые — ласково помаргивали. Старушка лучисто зажмурилась, обращаясь в пустой угол, зачмокала:
— Иди сюда, иди сюда, Звездочка, я тя подою, милашка, как раз подою. — Она присела на корточки, пошарила пальцами в воздухе, что-то нашла в пустоте, мягкое и податливое, беззубо заулыбалась, бубнила: — Не колыхайся, милашка, ишь молочка-то нагуляла, знать, по Гладкому болотцу, молочко оттеда духовитое, вязнучее — чисто сметана! Мишатка попьет и спасибо скажет...
Старушка привычно двигала руками, будто и впрямь ощущая в них сосцы вымени, прислушивалась к цыканью молочной струи, и вид ее — сосредоточенный и деловой — поразил Топоркова. Он не представлял, как останется в этом доме — гулком, запущенном, с прокопченным потолком; лампадка еле высвечивает лики святых на иконах, божью матерь с младенцем; шевельнулось прежнее чувство страха перед происходящим, отсекая те освежающие минуты, испытанные нынче: старушка. приняла его за сына, наверное, в каждом видит теперь своего ребенка — отраду, которой ее лишили; тихая, покорная, так и скончается, уверенная, — сын жив, где-то рядом, и будет звать его в последний час проститься.
Старушка мимоходом зачерпнула воды из ведра, совала шоферу кружку, приговаривала:
— Мишатка, испей парного-то, вкусненькое...
Топорков, подчиняясь ее просьбе, долго тянул из кружки. Старушка, глядя на него, порадовалась, захлопотала:
— Ложись-ка спать, я кровать-то давно-о-о расстелила! — Взяв шофера за руку, повела в другую комнату, щелкнула выключателем. На никелированной кровати с блестящими шариками высились две пуховые подушки, теплое стеганое одеяло до половины откинуто, приглашая лечь, простыня и наволочки — накрахмаленные. На табуретке — эмалированный таз с водой.
— Умойся на ночь, сполосни заботки и спи.
Топорков послушно снял ковбойку и майку, вымылся по пояс. Старушка подала полотенце.
— Ишь как хорошо... Ложись-ка, ложись, — настойчиво требовала она и, скрестив на животе руки, ждала. — Зина прибегала, жаловалась — долго тебя нет. Я ее успокоила — задержался, мол, трактор, видать, поломался. Постирала она бельишко, трудненько мне, стара стала. Ты уж не забижай ее, девка хорошая и любит крепко. К свадьбе готовься, не балуй понапрасну, с ребятней не гуляй, о Зине беспокойся... Спи, спи, Мишатка...
Постель мягкая; Топорков зарылся в подушку, зажмурил глаза — старушка подоткнула под бок одеяло, расправила складки на ногах; погасив свет, в темноте шептала молитву; напоследок осторожно нащупала волосы шофера, погладила.
Все произошло так и не так — Топорков прислушивался к шарканью ног за стеной, скрипу диванчика, на который снова улеглась старушка, и думал: нередко настоящая жизнь — цепочка больших и маленьких трагедий, ими же порой измеряется высота человеческого духа. Опять, и опять будет тянуть Топоркова сюда, в этот старый дом, где его всегда ждут, и он дотащит нелегкую ношу свою...
Снова на обочинах знакомые сосны, березняк, телеграфные столбы, истерзанные солнцем, дождями и ветром. Дорога побелела — это мельчайшая пыль из протертого песка лежала толстым слоем. Сумрачный орел-каменюк чернел на верхушке осины — одинокой и без единого сучка. Изредка мелькал понизу леса седой лишайник, будто притаился апрель с остатками снега. Колеса, пробуксовывая, вползали на увалы, осыпные, вязкие, — мотор выл надрывно. Топорков с беспокойством выглядывал из кабины — впереди разбитая лесовозами колея. Но вот машина скатилась в твердую ложбинку. Справа — Провал: низина, заросшая ольхой, осиной и березой, раскинулась километра на три, до реки, и верхушки деревьев, близкие, беззащитные, тянулись вверх из этой огромной ямины.
Топорков заглушил двигатель; обернул, чтобы не обжечься, руку кепкой и отвинтил горячую пробку радиатора — запарило. По откосу сквозь заросли папоротника он спустился вниз. Среди густой травы матово поблескивало зеркальце: кто-то вырыл копанку, выложил сруб из нескольких венцов, смастерил берестяную кружку и повесил ее на усохший сучок ближнего куста; место мокрое — рядом болото — и вода в копанке стояла почти у краев. Топорков дунул, разгоняя лесной сор, зачерпнул берестяником — пил маленькими глотками, ломило зубы от холодной воды. Напившись, он ковшиком наполнил ведро и, цепляясь за папоротник, выкарабкался из Провала; залил радиатор и пошел к заднему борту — из-под тента торчали двухметровые концы четырех обхватистых сосновых бревен, лежавших в кузове по диагонали. Топорков подергал проволоку, которой намертво прикручен груз, и снова усмехнулся, припомнив Васькины уверения: «Я тебе, Леха, за пол-литра не только подсоблю достать лесины, но и погружу, и устрою их в наилучшем виде!» — парень сдвинул кепку на затылок, осклабился и, выпятив загорелую широкую грудь, для пущей убедительности гулко стукнул по ней ладонью. «Не обманул, черт», — беззлобно подумал Топорков. Одна мысль тревожила его — кому из деревенских кланяться в ножки, просить о помощи. Встречи в Заворове еще резче отделили те дни, когда и не жил вовсе, а лишь с горьким недоумением спрашивал себя: «Почему это случилось именно со мной?» — и не находил ответа. В доме бабки Даши кончилось наваждение, и Топорков вдруг новыми глазами увидел лесную дорогу, Провал в белесом тумане; слева выстроенные сплошной стеной посадки сосняка — макушки ровные, будто стриженные кем-то, понизу совсем нет травы — видно, не добралась сюда рука человека, а прорубка нужна, ведь задохнется молодняк в тесноте и засохнет. Подальше лес отступал — березки стайками разбежались от дороги и замерли возле гречишного поля; гречиха цвела, и пахло пряно, звенел синий воздух от гудения пчел. Невдалеке урчал трактор — за перелеском, там уже Заворово.
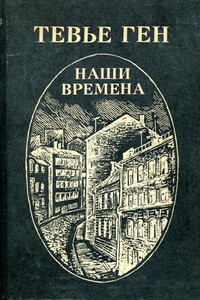
Тевье Ген — известный еврейский писатель. Его сборник «Наши времена» состоит из одноименного романа «Наши времена», ранее опубликованного под названием «Стальной ручей». В настоящем издании роман дополнен новой частью, завершающей это многоплановое произведение. В сборник вошли две повести — «Срочная телеграмма» и «Родственники», а также ряд рассказов, посвященных, как и все его творчество, нашим современникам.

Бурятский писатель с любовью рассказывает о родном крае, его людях, прошлом и настоящем Бурятии, поднимая важные моральные и экономические проблемы, встающие перед его земляками сегодня.

Новый роман-трилогия «Любовь и память» посвящен студентам и преподавателям университета, героически сражавшимся на фронтах Великой Отечественной войны и участвовавшим в мирном созидательном труде. Роман во многом автобиографичен, написан достоверно и поэтично.
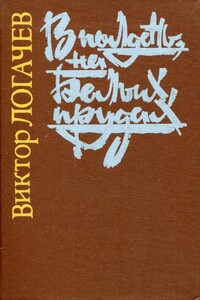
Нынче уже не секрет — трагедии случались не только в далеких тридцатых годах, запомнившихся жестокими репрессиями, они были и значительно позже — в шестидесятых, семидесятых… О том, как непросто складывались судьбы многих героев, живших и работавших именно в это время, обозначенное в народе «застойным», и рассказывается в книге «В полдень, на Белых прудах». Но романы донецкого писателя В. Логачева не только о жизненных перипетиях, они еще воспринимаются и как призыв к добру, терпимости, разуму, к нравственному очищению человека. Читатель встретится как со знакомыми героями по «Излукам», так и с новыми персонажами.

Русский солдат нигде не пропадет! Занесла ратная судьба во Францию — и воевать будет с честью, и в мирной жизни в грязь лицом не ударит!