Повести - [31]
— Ну, да что там! Видел. В первый раз видел, когда их гнали в столовую. Метров пятьсот «утиным шагом» — на корточках, держась обеими руками за уши: «Слухаён радио з Москвы!» — гоготали полицейские. Это не специально для Михася придумано: все мы через это прошли — белорусы, украинцы, поляки… Потом однажды мы стояли рядом «смирно». Как всегда, молчали, глядели в стену. А как же мне хотелось хоть лицо, хоть глаза его увидеть, чтоб хотя бы взглядом сказать, напомнить ему его прежние слова: «Чтоб добиться истинного счастья для людей, не хочу переступить через труп даже одного человека»… Да не его это слова, не наши! Давно мы переступили через них, так же как переступили через труп царизма, как переступим и через панский труп!..
Отец молчал. Никогда еще не видел я его таким убитым.
— И что же, все отобрали? — спросил Иван.
— Все. И приемник, и книги, и все, что он писал.
— Вот видишь. Говорил я тебе, что дело не в этом, что с панами надо бороться иначе.
На этот раз молчание было очень горькое.
— Там не один Михась, — сказал Иван. — Видел я и других из наших краев. Даже старый Процедура камни таскает. Все, что думает, что хочет жить, — все за решеткой да за проволокой. Нет, брат, так долго не протянется. Хватит.
Мы опять помолчали.
— Ну что, Алесь, а ты рисуешь? — спросил Иван.
— Э, рисую… — сказал я, и в первый раз в жизни меня не обрадовал, а смутил этот вопрос.
— А что там «э»! Ты, хлопец, духом не падай, рисуй. Хлеб наш горький, однако не вечный. Как паночки говорят: «Нет того дурного, из чего бы доброе не вышло». Слышишь? Будет и на нашей улице праздник. Что ни день — он ближе, а ты ведь еще мальчик, возьмешь свое… А это я не так сказал: не паночки говорят, а польский народ. Он так же свободы ждет, так же сидит — и в беде, и в тюрьме, и в Березе… Ну, а что тут у вас?
И мы стали рассказывать. Но это уже неинтересно.
Потом Иван пошел по луговой дорожке, останавливаясь у торфяных ям, из которых люди выходили с ним поговорить, потом растаял в серо-зеленой дали, а мы с отцом продолжали стоять.
Что думал отец, не знаю. Он был все так же мрачен.
А мне было не то что грустно, а скорее больно. Мне хотелось тут же пойти следом за Иваном, расспросить его о многом, о чем я уже думал сам, особенно в последние дни. Хотелось сказать ему, что дядя, лучший друг мой дядя Михась, не раз сомневался в том, во что верил. А я теперь начну, все начну сначала — каждый день моей жизни и каждый рисунок в новом альбоме. Я уже не отдам его тем, кто надевал на дядю наручники! Буду учиться и у таких, как Иван, буду искать их, чаще выходя из хаты, где прошло и уже не вернется мое отрочество. Не вернется — и не надо! Вернулся бы только дядя!
— Что ж, Алесь, может, начнем?..
Как он исхудал за это время, мой отец! А все-таки идет к яме первым.
— Я полезу копать, — сказал я, останавливая его. — Ты складывай.
Он поглядел на меня, подумал, кажется даже улыбнулся, и отдал лопату.
1943–1955
Пер. А. Островского
В Заболотье светает
1
Первый уход «в люди» начался у меня очень рано.
Был я тогда еще таким богатырем, что, выгоняя за околицу пеструю свинью, считал это полной рабочей нагрузкой. Щелкнул я как-то мокрым кнутом по ограде из колючей проволоки, а кончик кнута обмотался и застрял на колючке. Найти выход из этой беды, казалось мне тогда, было невозможно, и я заплакал, не выпуская из рук кнутовища.
Уже в то время отец мой, Петрусь Сурмак, вынужден был считать меня помощником в хозяйстве. И я пошел в пастухи к Бобруку, самому богатому в нашем Заболотье.
Это было весной двадцать пятого года. Помню, батька угрюмо шагал по деревенской улице, а по большим следам его босых ступней вприпрыжку семенил я. Поскользнулся на размокшей от дождя тропке и шлепнулся на руки в грязь.
— Ну, чего ты? — оглянулся отец. — Не падай духом, чудак человек…
А сам все хмурился.
Да и как тут не хмуриться человеку, который был трижды ранен, имел два георгиевских креста, командовал взводом при штурме Перекопа, а теперь, вернувшись в родную западнобелорусскую деревню, снова попавшую в лапы панов, должен отдавать в батраки своего семилетнего первенца?..
Вскоре я оказался за высокими серыми воротами Бобрукова двора, а отец ушел домой… Немало было потом ворот и калиток в чужих дворах, из которых я день за днем выгонял чужую скотину, но больше всех запомнились мне ворота, которые впервые закрыли от меня и родную хату и детское счастье. Собственно, не знаю, можно ли вообще назвать счастьем детство в голодной бедняцкой семье…
«Хилый он у вас, маленький еще, какая от него помощь!» — вздыхала Бобручиха.
Была она тетка набожная — каждое дело у себя в хозяйстве начинала молитвой из требника. Были в нем разные «чины» — молитвы и требы: и над гумном, и над печью, и над творогом, и над яйцами… И все они, как по заказу, очень ловко приноровлены были к нуждам Бобруковой семьи. «Освяти, приумножь, огради от врага», — вычитывала по складам Бобручиха, и заклинания эти произносились ею от души. Хозяева мои только и думали, как бы иметь всего побольше, больше, чем у других, больше, чем у врагов. Как-то один из этих врагов кинул Бобрукам в колодец дохлую ворону. И на этот случай в требнике нашелся соответствующий «чин», отправляемый «аще случится чесому скверному впасти в кладезь водный». Бобручиха проклинала и плакала, складывая старинные церковные слова, и ей в голову даже не пришло, что этой вороной мой предшественник, пастушок Леня Шарейка, отблагодарил их за горькую службу. В стаде Бобруковых свиней, которых я пас на выгоне, был один захудалый поросенок. Раз десять читала над ним хозяйка «молитву о скверно ядших», но, конечно, речь никогда и не заходила о том, что я жил впроголодь, ходил в лохмотьях, недосыпал, не мог учиться…
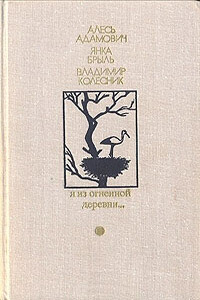
Из общего количества 9200 белорусских деревень, сожжённых гитлеровцами за годы Великой Отечественной войны, 4885 было уничтожено карателями. Полностью, со всеми жителями, убито 627 деревень, с частью населения — 4258.Осуществлялся расистский замысел истребления славянских народов — «Генеральный план „Ост“». «Если у меня спросят, — вещал фюрер фашистских каннибалов, — что я подразумеваю, говоря об уничтожении населения, я отвечу, что имею в виду уничтожение целых расовых единиц».Более 370 тысяч активных партизан, объединенных в 1255 отрядов, 70 тысяч подпольщиков — таков был ответ белорусского народа на расчеты «теоретиков» и «практиков» фашизма, ответ на то, что белорусы, мол, «наиболее безобидные» из всех славян… Полумиллионную армию фашистских убийц поглотила гневная земля Советской Белоруссии.

Сборник рассказов белорусского писателя Янки Брыля из книги "Иду в родное". Рассказы тематически охватывают разное время — от довоенных лет до сегодняшнего дня.1. Ты мой лучший друг.2. Мать.3. Один день.4. Лазунок.5. Снежок и Гуленька.6. Галя.7. Осколочек радуги.8. Тоска.9. Звезда на пряжке.10. В глухую полночь.11. Глядите на траву.

Янка Брыль — видный белорусский писатель, автор многих сборников повестей и рассказов, заслуженно пользующихся большой любовью советских читателей. Его произведения издавались на русском языке, на языках народов СССР и за рубежом.В сборник «Повести» включены лучшие из произведений, написанных автором в разные годы: «Сиротский хлеб», «В семье», «В Заболотье светает», «На Быстрянке», «Смятение», «Нижние Байдуны».Художественно ярко, с большой любовью к людям рассказывает автор о прошлом и настоящем белорусского народа, о самоотверженной борьбе коммунистов-подпольщиков Западной Белоруссии в буржуазной Польше, о немеркнущих подвигах белорусских партизан в годы Великой Отечественной войны, о восстановлении разрушенного хозяйства Белоруссии в послевоенные годы.
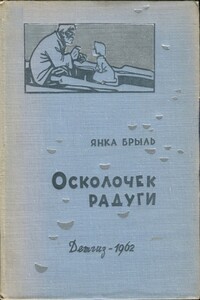
Белорусский писатель Янка Брыль детство и юность прожил в Западной Белоруссии, до сентября 1939 года находившейся в пределах бывшей буржуазной Польши. Деревенский пастушок, затем — панский солдат, невольный защитник чужих интересов, создавая теперь, в наши дни, такие произведения, как повесть «Сиротский хлеб» и цикл рассказов «Ты мой лучший друг», думал, конечно, не только о прошлом… В годы Великой Отечественной войны, бежав из фашистского плена, Янка Брыль участвовал в партизанском движении. Рассказы «Мать», «Один день», «Зеленая школа» посвящены простым советским людям, белорусским народным мстителям, обаятельным, скромным и глубоко человечным. К этим рассказам примыкает и рассказ «Двадцать» — своеобразный гимн братству простых и чистых сердцем людей всей земли. Остальные рассказы сборника — «Ревность», «Осколочек радуги», «Тоска» и «Надпись на срубе» — повествуют о радостях мирного труда, о красоте белорусской природы, о самой высокой поэзии жизни — поэзии детства.

Владимир Поляков — известный автор сатирических комедий, комедийных фильмов и пьес для театров, автор многих спектаклей Театра миниатюр под руководством Аркадия Райкина. Им написано множество юмористических и сатирических рассказов и фельетонов, вышедших в его книгах «День открытых сердец», «Я иду на свидание», «Семь этажей без лифта» и др. Для его рассказов характерно сочетание юмора, сатиры и лирики.Новая книга «Моя сто девяностая школа» не совсем обычна для Полякова: в ней лирико-юмористические рассказы переплетаются с воспоминаниями детства, героями рассказов являются его товарищи по школьной скамье, а местом действия — сто девяностая школа, ныне сорок седьмая школа Ленинграда.Книга изобилует веселыми ситуациями, достоверными приметами быстротекущего, изменчивого времени.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книгу известного ленинградского писателя Александра Розена вошли произведения о мире и войне, о событиях, свидетелем и участником которых был автор.


