Повесть об отроке Зуеве - [61]
(Мог ли он знать в эту минуту, что записи его о пеструшках позднее войдут в учебник натуральной истории, по которой мальчишки XVIII и XIX веков будут изучать северных животных? Предполагал ли, что его труд «Об оленях», писанный еще в Березове, будет доложен в Санкт-Петербурге на научной конференции и многие зоологи подивятся новизне зуевских наблюдений?)
…Шли бы мы не двадцать верст за день, а быстрее, но много переправы забирают часов. Речки, речки. Олени вплавь добираются до противоположного берега. Нам же погрузиться, разгрузиться. Течение тут спорое, лодку далече относит. Впрочем, пообвыкли и приноровились. Нет во мне должной ловкости, к веслу не приучен. Устаю. Как же должен уставать дядя Ксеня! Виду от усталости не подает. Когда знаешь, что рядом родная душа, не так все трудно. Я ранее не ведал, что такое быть одиноким, да и никогда им не был. Всегда меня окружали верные друзья, а тут, в тундрах, часто на сердце скребет тоска. Но лишь на Шумского погляжу — уходит тоска.
День восьмой по выезде из Обдорска
Переправлялись через речку Байдарату. Вода тут шумная, своенравная. С нагруженной лодкой в верченой воде лучше бы управиться крепкому мужику. Вану был занят оленями, Ерофеев носил вещи из нарт к берегу. Я же замешкался… Глянул, а за веслами уже старик. Приказал подождать. Ни в какую. Шумский уже греб: до середины реки доплыл, а дальше сил не хватило преодолеть могучее течение. Лодку понесло. На быстрине швырнуло ее боком на огромный камень. Плоскодонка опрокинулась. Шумский окунулся с головой. Едва успели на помощь. Переодели его, натерли водкой, укутали в меховую шубу. Все одно никак согреться не мог. Жар к вечеру у него поднялся. Горит, мечется. Слов нот, как казнюсь, что проявил слабость и допустил старика до переправы.
Приказал Ерофееву ставить чум. С места не стронемся, покуда Шумский не поправится.
День девятый по выезде из Обдорска
Волки обнаглели до того, что совсем близко рыщут. Олени сбились в кучку, беспокоятся, от чума не отходят. Дежурим поочередно. Не смыкая глаз, стережем наше малое становище. Сухие дрова, прихваченные в Обдорске, кончаются, а тал и ольха горят слабо, более дымят, чем дают жару. Шумский в редкие минуты приоткроет глаза. Поим его чаем, настойками. Должно быть, у Шумского огневица, а против этой болезни при несносной стуже наши домашние средства дают невеликую помощь.
Ерофеев сегодня заговаривал хворь: «Пойду, перекрестясь, на сине море. Сидит там на камне пресвятая матерь, держит в руках белого лебедя, общипывает у лебедя белое перо. Как отскакнуло от лебедя белое перо, так отпряньте от раба божьего Шумского родимые горячки. С ветру пришла, на ветер пойди. С воды пришла — на воду пойди. Пойди отныне и до века…»
Встречаясь с бедою, становишься язычником. Я и сам беспременно повторяю: «С воды пришла — на воду пойди. Пойди отныне и до века».
Минутами охота бирюком завыть. Шумский просит, чтобы дальше шли, а его оставили околевать. Накричал на старика. Слезы невольно набегают на глаза.
День десятый по выезде из Обдорска
Господи, дай разума: что делать? Возвращаться — путь дальний. Того и гляди, не довезем старика. Вану ходит зверьком побитым. Ерофеев мается. Вот как не повезло нам почти на самом скончании пути. Вижу теперь, какую непосильную ношу взял на себя. Одно дело — отвечать за себя, иное — за других нести ответ. Кто же я такой-то, чтобы руководительствовать экспедицией? Недоучившийся гимназей. Немецким штилем владею, знаю латынь. Но язык этот мертв, как мертва окружающая нас земля. Путаются мысли. Доверяю их дневнику, а сам сообразить ничего не умею. Хуже старику. Все шкуры на него накидали, а ему зябко.
Глава, в которой речь идет о событиях печальных и о том, что координатам карты можно доверять далеко не всегда
Старик метался. Его нездоровье как-то заметно сказалось на бороде. Порода Шумского всегда жила своей независимой, самостоятельной жизнью: топорщилась, кудлатая, когда старик гневался; весело, по-младенчески, пушилась после баньки и умывания; Шумский вскидывал ее в раздумье, и борода, как домашняя кошка, ластилась, вот-вот уютно мурлыкнет, свернется калачиком. Теперь же борода истончилась, покойно выровнялась на груди старика.
Шумский не любил говорить о себе. Сейчас, когда ему становилось полегче, рассказывал Зуеву, как в молодости бежал из Твери, не пожелав возглавить торговое дело отца. В Санкт-Петербурге прибился к подельщику академической кунсткамеры. Тот обучил редкому художеству — оживлять, словно живой водой, мертвую натуру. Как стекольщик вдувает в расплавленную массу свое горячее дыхание, так и чучельник обязан вдохнуть в свое изделие жизнь: прытким ли взмахом хвоста, настороженным ли взглядом чутких зрачков, схваченным на лету оскалом хищного рта, поворотом шеи, когда по напряженной холке угадывается, чует ли зверь потайную опасность или готов с достоинством прошествовать в нору, к ожидающим корма детенышам…
Вот такие чучела делал Шумский. Они восхищали Палласа, ничего подобного, как он говорил, не видел в Германии.
И теперь Шумский горевал, что не увидит своих зверушек в кунсткамере.

На крутом берегу реки Хатанга, впадающей в море Лаптевых, стоит памятник — красный морской буй высотою в пять метров.На конусе слова: «Памяти первых гидрографов — открывателей полуострова Таймыр».Имена знакомые, малознакомые, совсем незнакомые.Всем капитанам проходящих судов навигационное извещение предписывает:«При прохождении траверза мореплаватели призываются салютовать звуковым сигналом в течение четверти минуты, объявляя по судовой трансляции экипажу, в честь кого дается салют».Низкие гудки кораблей плывут над тундрой, над рекой, над морем…Историческая повесть о походе в первой половине XVIII века отряда во главе с лейтенантом Прончищевым на полуостров Таймыр.
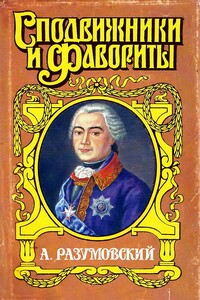
Об одном из самых известных людей российской истории, фаворите императрицы Елизаветы Петровны, графе Алексее Григорьевиче Разумовском (1709–1771) рассказывает роман современного писателя А. Савеличева.

В конце июля – начале августа 1941 года в районе украинского города Умань были окружены и почти полностью уничтожены 6-я и 12-я армии Южного фронта. Уманский «котел» стал одним из крупнейших поражений Красной Армии. В «котле» «сгорело» 6 советских корпусов и 17 дивизий, безвозвратные потери составили 18,5 тысяч человек, а более 100 тысяч красноармейцев попали в плен. Многие из них затем погибнут в глиняном карьере, лагере военнопленных, известном как «Уманская яма». В плену помимо двух командующих армиями – генерал-лейтенанта Музыченко и генерал-майора Понеделина (после войны расстрелянного по приговору Военной коллегии Верховного Суда) – оказались четыре командира корпусов и одиннадцать командиров дивизий.

Эта книга является 2-й частью романа "Нити судеб человеческих". В ней описываются события, охватывающие годы с конца сороковых до конца шестидесятых. За это время в стране произошли большие изменения, но надежды людей на достойное существование не осуществились в должной степени. Необычные повороты в судьбах героев романа, побеждающих силой дружбы и любви смерть и неволю, переплетаются с загадочными мистическими явлениями.

Во второй книге дилогии «Рельсы жизни моей» Виталий Hиколаевич Фёдоров продолжает рассказывать нам историю своей жизни, начиная с 1969 года. Когда-то он был босоногим мальчишкой, который рос в глухом удмуртском селе. А теперь, пройдя суровую школу возмужания, стал главой семьи, любящим супругом и отцом, несущим на своих плечах ответственность за близких людей.Железная дорога, ставшая неотъемлемой частью его жизни, преподнесёт ещё немало плохих и хороших сюрпризов, не раз заставит огорчаться, удивляться или веселиться.

Герой этой книги — Вильям Шекспир, увиденный глазами его жены, женщины простой, строптивой, но так и не укрощенной, щедро наделенной природным умом, здравым смыслом и чувством юмора. Перед нами как бы ее дневник, в котором прославленный поэт и драматург теряет величие, но обретает новые, совершенно неожиданные черты. Елизаветинская Англия, любимая эпоха Роберта Ная, известного поэта и автора исторических романов, предстает в этом оригинальном произведении с удивительной яркостью и живостью.

В книге впервые публикуется центральное произведение художника и поэта Павла Яковлевича Зальцмана (1912–1985) – незаконченный роман «Щенки», дающий поразительную по своей силе и убедительности панораму эпохи Гражданской войны и совмещающий в себе черты литературной фантасмагории, мистики, авангардного эксперимента и реалистической экспрессии. Рассказы 1940–50-х гг. и повесть «Memento» позволяют взглянуть на творчество Зальцмана под другим углом и понять, почему открытие этого автора «заставляет в известной мере перестраивать всю историю русской литературы XX века» (В.