Повесть о Великом мире - [14]
Сильно разгневавшись, государь вымолвил:
— Сказано ведь: «Приговаривая к смертной казни, приговор повторяют трижды». Несмотря на это, по единственному нашему слову совершили ошибку, усугубив этим недостаток благоразумия у нас Такое злодеяние равносильно великому греху[189], — и тут же вызвал придворного, передающего его повеления, и наказал три вида его родственников[190].
Но вот, подумав, что этот шрамана не напрасно был без вины подвергнут смертной казни, что это было, видимо, определено поступками, совершёнными им в прежней жизни, государь спросил об этом у архата. Семь дней архат, погрузившись в раздумья и сумев проникнуть в судьбы, обозревал прошлое и настоящее и наконец увидел, что в предыдущем рождении шрамана был крестьянином, который занимался обработкой земли. А император в предыдущем рождении был лягушкой и жил в воде. Когда однажды весной этот крестьянин обрабатывал мотыгой горное поле, он по ошибке концом мотыги отрубил лягушке голову. Благодаря своей карме[191], крестьянин родился шраманой, а лягушка родилась великим королём государства Варанаси, который по ошибке тоже совершил смертную казнь.
Так, значит, из-за какой же кармы наш высокомудрый тоже погрузился в столь непредвиденное прегрешение? О, как это всё удивительно!
4
О ТОМ, КАК ТОСИМОТО-АСОН ВТОРИЧНО НАПРАВИЛСЯ В КАНТО
Хотя в прошлом году, после того, как разгромили Токи Дзюро Ёрисада, Тосимото-асон и был арестован и доставлен в Камакура, его освободили, потому что сочли достаточными разного рода объяснения, которые он привёл. Но поскольку на этот раз в признаниях снова было упомянуто, что в планах заговора всецело участвовал этот асон, в одиннадцатый день седьмой луны его под конвоем доставили в Рокухара и препроводили в Канто.
Законом определено, что повторное преступление не прощается, поэтому какие бы оправдания ни приводились, их не принимают. «Одно из двух: либо пропаду по дороге, либо меня зарубят в Камакура», — раздумывал он, отправляясь в дорогу.
Бредёт, приминая ногами
Снег опавших цветов,
В Катано любуется
Весеннею сакурой
Или домой возвращается,
Одевшись парчою багряной листвы,
В осенние сумерки,
Покрывшие гору Араси;
Бывает тоскливо,
Когда хоть одну
Проводит он ночь до рассвета
В дорожном приюте.
Не слабы
Семейные узы любви —
Жену и детей,
Что оставил на родине,
Вспомнил с тоскою,
Не зная, что с ними теперь.
Туда, где за долгие годы
Обжился,
На Девятивратную
Государя столицу
В последний теперешний раз
Оглянувшись,
В нежданный свой путь
Отправляется он,
А в сердце такая печаль!
Не угасит её
Даже Застава встреч.
Её чистыми водами
Свои увлажнив рукава,
Прошёл он в конце
через горный проход
К песчаному берегу Утидэ.
Далёко в открытое море
Свой взор устремив,
Увидел, что в мареве движется
По несолёному морю[192],
Словно это он сам, зыбкая лодка —
Она то всплывёт,
то погрузится в волны.
С грохотом кони
Стучат копытами,
Переходя
Через длинный мост Сэта,
По дороге Оми
Люди идут и туда, и навстречу;
Плачет журавль
На равнине Унэ.
Жаль его —
Не журавлёнка ли он вспоминает?![193]
В Морияма
Идёт и идёт дождь осенний,
Под деревом
Намок уж рукав от росы[194].
Когда ж в Синохара —
на Равнине бамбука,
Где ветром сбивает росу,
Прошёл той дорогой,
Что разделяет бамбуки;
Хоть и была на пути
Кагаминояма, Зерцало-гора, -
Из-за тумана от слёз
В ней отражения не было видно.
Но лишь задумается,
Так даже средь ночи
Там, на траве,
Что в роще Оисо,
Коней остановив,
Назад с тоскою смотрит, —
Но, видно, родину
Закрыли облака…
Вот Бамба, Самэгаи,
Касивабара,
Вот домик у заставы Фува —
Совсем он разрушен,
А стерегут её
Осенние дожди.
Когда ж ему
Придёт кончина?[195]
Перед мечом из Ацута
Священным[196] преклонился.
Теперь, когда отлив
В лагуне Наруми, —
От заходящей здесь луны
Видна дорожка.
В рассвет ли, в сумерки ль
Его дороге
Где конец настанет?
Как в Тотоми[197]
На волнах вечернего прилива
У моста Хамана
Покинутая лодка,
Которую никто не вытащит на берег,
Утонет, —
С ним так же будет,
И тогда его кто пожалеет?
Но вот уж в сумерках
Раздался звон вечерний.
Пора и отдохнуть, — подумал он.
И на почтовой станции Икэда
Остановился на ночлег.
Не в первом ли было
Году эры Гэнряку?[198] —
Тогда военачальник
Сигэхира[199],
Пленённый
Дикарями[200],
На той же станции
Остановился.
Смотрителя же дочь
Стихи тогда сложила —
«На Восточной дороге
В убожестве
Хижины жалкой
Родные места
Он, видно, с тоской вспоминает».
Вспомнив всю до конца
Ту старинную
Грустную повесть,
[Тосимото] залился слезами.
В придорожном ночлеге
Тускло светит фонарь,
Но раздался лишь крик петуха,
И забрезжил рассвет,
На ветру
Уже лошадь заржала —
Путник реку Небесных драконов
Пересекал,
А когда через реку Саё
Переправлялся,
Заслонили дорогу
Белые облака,
Так что вечером, в сумерках,
Не разобрать,
Где же небо над домом родным, —
Как ни гляди.
С какою завистью
Подумал он,
Что Сайгё-хоси[201] в старину
Здесь дважды довелось
Переправляться,
Тогда сложил он: «Такова
Была моя судьба».[202]
Быстры ноги у коня,
На котором скачет время, —
Уж солнце
В полдень поднялось,
Когда, сказав, что уж пора
Давать ему дорожный рис,
Его носилки
Внесли во двор, остановились…
Постучав по оглобле, пленник вызвал воинов конвоя и спросил у них, как называется эта почтовая станция. «Её называют Кикукава, Река хризантем», — был ответ. Во время сражений годов правления под девизом Сёкю
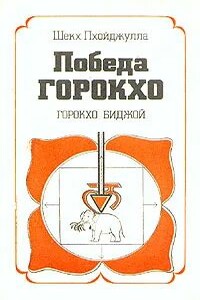
В книге впервые на русском языке публикуется литературный перевод одной из интересных и малоизвестных бенгальских средневековых поэм "Победа Горокхо". Поэма представляет собой эпическую переработку мифов натхов, одной из сект индуизма. Перевод снабжен обширным комментарием и вводной статьей.

«Книга попугая» принадлежит к весьма популярному в странах средневекового мусульманского Востока жанру произведений о женской хитрости и коварстве. Перевод выполнен в 20-х годах видным советским востоковедом Е. Э. Бертельсом. Издание снабжено предисловием и примечаниями. Рассчитано на широкий круг читателей.
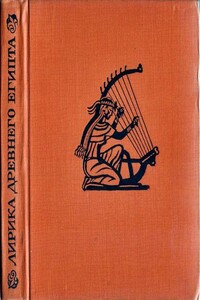
Необыкновенно выразительные, образные и удивительно созвучные современности размышления древних египтян о жизни, любви, смерти, богах, природе, великолепно переведенные ученицей С. Маршака В. Потаповой и не нуждающейся в представлении А. Ахматовой. Издание дополняют вступительная статья, подстрочные переводы и примечания известного советского египтолога И. Кацнельсона.
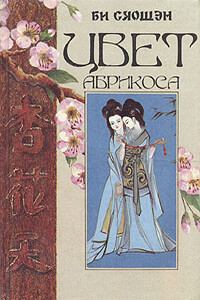
Китайский любовный роман «Цвет абрикоса» — это, с одной стороны, полное иронии анекдотическое повествование о похождениях молодого человека, который, обретя чудодейственное снадобье для поднятия мужских сил, обзавелся двенадцатью женами; с другой стороны — это книга о страсти, о той стороне интимной жизни, которая, находясь в тени, тем не менее, занимает значительную часть человеческой жизни и приходится на ее лучшую, но краткую пору — пору молодости. Для современного читателя этот роман интересен как книга для интимного чтения.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
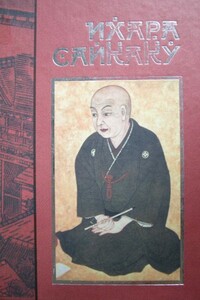
Ихара Сайкаку (1642–1693), начавший свой творческий путь как создатель новаторских шуточных стихотворений, был основоположником нового направления в повествовательной прозе — укиё-дзоси (книги об изменчивом мире). Буддийский термин «укиё», ранее означавший «горестный», «грешный», «быстротечный» мир, в контексте культуры этого времени становится символом самоценности земного бытия. По мнению Н. И. Конрада, слово «укиё» приобрело жизнеутверждающий и даже гедонистический оттенок: мир скорби и печали превратился для людей эпохи Сайкаку в быстротечный, но от этого тем более привлекательный мир радости и удовольствий, хозяевами которого они начали себя ощущать.Т.