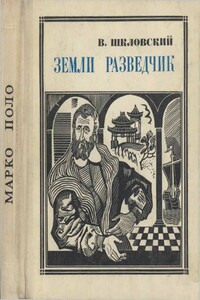Повесть о художнике Федотове - [56]
– Нет, Паша.
– Ну да, я знаю, четыре года прошло. Нева происходит, – сказал Федотов, – от воды, стекающей с мокрых лохмотьев нищих, оттого в ней не хватает красок. Нас бьют в три кнута, чтобы смирить. Гоголь тоже умер, но я дерусь, и им тоже достается. Но Черномор не победит Руслана.
Кругом на всех стенах, обтянутых клеенкой, был виден след на высоте головы: Федотов бился о стену.
Окошко в углу за железной решеткой без стекла и ставни; за решеткой дождь.
Федотов посмотрел на смирительную рубашку, потом искоса на друзей.
– Вы узнаете рубаху на мне – это смертная одежда, ее надели на меня тогда, на плацу… снять ее нет приказания?
– Опять начинается, оставаться опасно, – проговорил Коршунов. – Плакать и биться будет.
Мрачно ехали друзья домой на извозчике в дрожках.
Не выдержали, отпустили извозчика, пошли пешком.
На окраинах города тротуаров не было, мостки плясали под ногами.
Жемчужников шел, задумавшись. Извозчик тянулся сзади, как будто сопровождал похоронную процессию.
Вдруг мостки оборвались. Лев Михайлович упал в какую-то лавочку в подвале; гробы стояли вдоль стен.
– Как странно, – сказал Лев Михайлович, – попасть к гробовщику.
Сели на извозчика, поехали опять.
Ночь. Пустота. Никого не видно. Фонари во тьме пятнами.
Какое-то уныние охватило Жемчужникова; он соскочил с извозчика и с криком побежал по улице.
Бейдеман бросился за ним.
– Что с тобой, Лева?..
– Ах, как это глупо… Сам не знаю что. Но мне сделалось страшно, и я невольно побежал.
Несколько дней мучились оба художника.
Они видели все перед собой Федотова и слышали его голос.
– Как избавиться от этого? – сказал Жемчужников.
– Павел Андреевич нарисовал бы все это на картине, – мрачно ответил Бейдеман.
Картину решили делать. Сперва каждый набросал эскиз отдельно, потом соединили композицию.
Ни Бейдеман, ни Жемчужников не решились подписать набросок.
Рисунок пошел по рукам.
Федотова было решено перевести в казенный дом душевнобольных на одиннадцатой версте.
Художник умирает
Высока, тяжела миссия всякого новатора… К ней можно приготовиться только глубоким и долгим учением, ждать в ней успеха – только при точном знании законов природы. Неуспех, страдания, гонения были доселе уделом всякого новатора, не льстившего невежеству, но который, руководясь истиною, стремился усвоить ее человечеству.[61]
М. В. Петрашевский
Верный Коршунов сопровождал Федотова в новое помещение.
Федотов получил маленькую отдельную комнату с дверью без ручки. Ему стало лучше, он начал рисовать, не сбивая рисунка.
Кололо в боку – простуда.
Трудно дышать.
Он говорил Коршунову:
– Картины-то я писать умею, только в «Разборчивой невесте» может треснуть краска. Состарится картина, а надо быть всем крепкими, не стареть.
– Вы успокойтесь, Павел Андреевич, завтра утром будете писать.
– Коршунов, ты помнишь курган на Голодае?
– Как же, помню!
– Там пять человек лежат, декабристами их прозвали.
– Слышал, Павел Андреевич, слышал, в полку их не забыли… Только вы успокойтесь…
– За городом лежат, скот там закапывают… А Лермонтова на Кавказе убили… Пушкина убили на Черной речке. За городом, как бешеную собаку… Сколько от нас до города, Коршунов?
– Одиннадцать верст… Только вы не плачьте, вам вредно.
– Пошли утром звать Сашу и Льва, скажи им, что умирает Павел Андреевич Федотов и хочет говорить о картинах.
– Да вы не плачьте…
– Я не плачу, я буду спать.
Утром служивый был послан. Павел Андреевич сел в оборванное, стертое кресло.
Он ждал; рисовал новый набросок «Вдовушки». Поставил рисунок к раме окна.
Осенняя клочковатая трава белела. Краснели рябины, темнели ели за бараками.
День четырнадцатого ноября 1852 года проходил. Федотов ждал, тихо разговаривал с Коршуновым. Лег на постель – дышать трудно. Когда будет утро? Когда запоют петухи?
– Картин много не написано: мостовщики ужинают на мостовой, рядом с ними груды камней, они от ветра заслонились, сделав шалаш из тулупов…
– Я, Павел Андреевич, свечку зажгу.
– Сон не приходит. Коршунов, как нарисовать музыку?
– Не знаю, Павел Андреевич… Трубы какие-нибудь, и солдаты идут…
– Века, как секундный ход стенных часов, человечество строит мостовую, создает едва заметный фундамент культуры, и вдруг вопль миллиона людей – война; слабая женщина у комода плачет, и все это как кузнечик в траве… А утро запоздало, мы умираем и живем тихо, как трава…
– Я вас, Павел Андреевич, шинелькой покрою, а свечку мы рисуночком заслоним. Спите, Павел Андреевич!
– Как хорошо отражаются в стеклах две разные свечи и за стеклом небо… Какая спокойная и печальная даль… Все можно передать в живописи. Рим, гордый, беззаконный, хвалящийся казнями, колоннами, подушной податью, Исаакиевским собором и полосатыми шлагбаумами, рушится в музыке «Руслан и Людмила», и вместо него картина про простого человека, про естественную жизнь…
– У вас, Павел Андреевич, ноги совсем застыли.
– Я боюсь и робею. Мне холодно. Жизнь человека – она должна быть кем-нибудь полностью изображена. А я боюсь сейчас даже воробья: он мне может нос оцарапать, и я остерегаюсь.
Свеча дважды отражалась в немытых стеклах. Павел Андреевич смотрел на свет и гладил старую офицерскую шинель на демикотоне. Совсем истерлась ткань.

«Жили-были» — книга, которую известный писатель В. Шкловский писал всю свою долгую литературную жизнь. Но это не просто и не только воспоминания. Кроме памяти мемуариста в книге присутствует живой ум современника, умеющего слушать поступь времени и схватывать его перемены. В книге есть вещи, написанные в двадцатые годы («ZOO или Письма не о любви»), перед войной (воспоминания о Маяковском), в самое последнее время («Жили-были» и другие мемуарные записи, которые печатались в шестидесятые годы в журнале «Знамя»). В. Шкловский рассказывает о людях, с которыми встречался, о среде, в которой был, — чаще всего это люди и среда искусства.

« Из радиоприемника раздался спокойный голос: -Профессор, я проверил ваш парашют. Старайтесь, управляя кривизной парашюта, спуститься ближе к дороге. Вы в этом тренировались? - Мало. Берегите приборы. Я помогу открыть люк. ».

Виктор Борисович Шкловский (1893–1984) — писатель, литературовед, критик, киносценарист, «предводитель формалистов» и «главный наладчик ОПОЯЗа», «enfant terrible русского формализма», яркий персонаж литературной жизни двадцатых — тридцатых годов. Жизнь Шкловского была длинная, разнообразная и насыщенная. Такой получилась и эта книга. «Воскрешение слова» и «Искусство как прием», ставшие манифестом ОПОЯЗа; отрывки из биографической прозы «Третья фабрика» и «Жили-были»; фрагменты учебника литературного творчества для пролетариата «Техника писательского ремесла»; «Гамбургский счет» и мемуары «О Маяковском»; письма любимому внуку и многое другое САМОЕ ШКЛОВСКОЕ с точки зрения составителя книги Александры Берлиной.

Книга эта – первое наиболее полное собрание статей (1910 – 1930-х годов) В. Б. Шкловского (1893 – 1984), когда он очень активно занимался литературной критикой. В нее вошли работы из ни разу не переиздававшихся книг «Ход коня», «Удачи и поражения Максима Горького», «Пять человек знакомых», «Гамбургский счет», «Поиски оптимизма» и др., ряд неопубликованных статей. Работы эти дают широкую панораму литературной жизни тех лет, охватывают творчество М. Горького, А. Толстого, А. Белого. И Бабеля. Б. Пильняка, Вс. Иванова, M.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

«Заслон» — это роман о борьбе трудящихся Амурской области за установление Советской власти на Дальнем Востоке, о борьбе с интервентами и белогвардейцами. Перед читателем пройдут сочно написанные картины жизни офицерства и генералов, вышвырнутых революцией за кордон, и полная подвигов героическая жизнь первых комсомольцев области, отдавших жизнь за Советы.

Жестокой и кровавой была борьба за Советскую власть, за новую жизнь в Адыгее. Враги революции пытались в своих целях использовать национальные, родовые, бытовые и религиозные особенности адыгейского народа, но им это не удалось. Борьба, которую Нух, Ильяс, Умар и другие адыгейцы ведут за лучшую долю для своего народа, завершается победой благодаря честной и бескорыстной помощи русских. В книге ярко показана дружба бывшего комиссара Максима Перегудова и рядового буденновца адыгейца Ильяса Теучежа.

Автобиографические записки Джеймса Пайка (1834–1837) — одни из самых интересных и читаемых из всего мемуарного наследия участников и очевидцев гражданской войны 1861–1865 гг. в США. Благодаря автору мемуаров — техасскому рейнджеру, разведчику и солдату, которому самые выдающиеся генералы Севера доверяли и секретные миссии, мы имеем прекрасную возможность лучше понять и природу этой войны, а самое главное — характер живших тогда людей.

В 1959 году группа туристов отправилась из Свердловска в поход по горам Северного Урала. Их маршрут труден и не изведан. Решив заночевать на горе 1079, туристы попадают в условия, которые прекращают их последний поход. Поиски долгие и трудные. Находки в горах озадачат всех. Гору не случайно здесь прозвали «Гора Мертвецов». Очень много загадок. Но так ли всё необъяснимо? Автор создаёт документальную реконструкцию гибели туристов, предлагая читателю самому стать участником поисков.

Мемуары де Латюда — незаменимый источник любопытнейших сведений о тюремном быте XVIII столетия. Если, повествуя о своей молодости, де Латюд кое-что утаивал, а кое-что приукрашивал, стараясь выставить себя перед читателями в возможно более выгодном свете, то в рассказе о своих переживаниях в тюрьме он безусловно правдив и искренен, и факты, на которые он указывает, подтверждаются многочисленными документальными данными. В том грозном обвинительном акте, который беспристрастная история составила против французской монархии, запискам де Латюда принадлежит, по праву, далеко не последнее место.