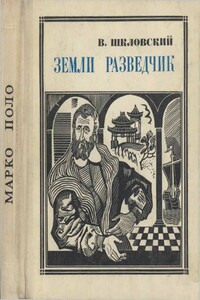Повесть о художнике Федотове - [4]
Забил барабан; все стали в строй; Федотов – в конце шеренги. Подошел офицер; толстое брюхо его было обмотано шарфом.
– Выправки нет! – сказал офицер и поднял голову Павы. – Теперь смотри на меня, подбери живот, расправь плечи, сдвинь каблуки, не дыши и стой свободно! Не напрягайся!
Федотов посмотрел кругом, подобрал живот, вытянулся.
– Недурно! – решил офицер.
Пахло незнакомым постным маслом, ламповым чадом и чужим казенным сукном.
Барабан застучал, все замаршировали. Однообразная масса привычно отбивала шаг, и только новички путались в ногах.
Корпус огромен, каменные коридоры его похожи на улицы. Мальчик шел из коридора в коридор, с лестницы на лестницу, по скругленным, стертым ступеням и снова попадал в коридоры.
Барабаны стучали в коридорах: еще где-то маршировали.
Улицы коридоров сменялись площадями лестничных площадок, над площадками висело казенное небо сводов.
Вдаль уходили дороги коридоров.
Новички шли стаей, дробно стуча по камням лестниц тяжелыми, казенными, непригнанными, чужими сапогами.
Зал был так велик, что уже не походил на помещение, – казалось, что это поле.
Небо сводов расширялось.
Окна висели где-то вверху, на сажень от пола.
Оглушительный стук барабана повторился, и все построилось вдоль четырех стен необъятного зала.
Маленькие новички встали в концы шеренг и притворялись тоже чужими и казенными.
По команде все повернулись в сторону. Мерный топот ног согласился со звуком барабана и умолк.
Исчезло все цветное, все позолоченное – было только черное и немного красного. Ряды повернулись, поставили ногу; ударил барабан; послышался шум, как будто землю били розгами.
– Крепче, реже! – сказал офицер.
Строй маршировал.
Столовая была поменьше зала, и свод нависал над ней низко, несколько напоминая перевернутое корыто. Под корытом – окна в обе стороны; с обеих сторон сквозь окна видны одинаковые дворы; через двор были видны еще окна, а над окнами львиные морды смотрели на кадетов, держа в зубах толстые серые каменные кольца.
Ряд длинных столов, уставленных приборами, похож был на грядки весенних огородов без зелени. На стол брошены оловянные тарелки с крупно нарезанным хлебом. Серая соль лежала на досках стола целыми грудами, как будто самих кадетов сейчас, как капусту, изрубят и посолят.
Все выстроились перед столами, наступило молчание; в молчании быстро и убедительно что-то проговорил барабан; все запели в ответ:
После молитвы барабан простучал что-то совсем короткое; шаркнули скамьи, и начался однообразный звон посуды.
После обеда – барабан.
Пошли в зал. Меркли окна – наступал вечер. Темные коридоры еще более вытянулись – им теперь, казалось, не было конца.
Из тьмы появилась какая-то длинная, в серых, грубого сукна штанах и такой же куртке фигура. На куртке медные пуговицы; на одной из медных пуговиц блестит склянка со скипидаром; это старый солдат-ламповщик шел, отмеривая заученные шаги. Лестница лежала у него на плече согласно уставу. Ламповщик подходил к лампам, подставлял лестницу, мазал фитиль скипидаром, зажигал; лампы загорались тусклым светом, и начинало пахнуть конопляным маслом.
В комнатах холодно. Что-то проговорил барабан.
Кадеты пошли в дортуары. Железные кровати с плоскими постелями стояли тесными рядами, над постелями торчали железные палки, на палках черные доски, на досках надписи мелом.
Дежурный подвел Федотова к постели:
– Имя?
– Пава.
– Надо отвечать: «Павел». Фамилия?
– Федотов.
Дежурный написал мелом на доске: «Федотов-первый».
Федотов-первый разделся, служитель дал ему длинную рубашку из грубой холстины.
Федотов надел ее, и рубашка легла вокруг ног мальчика складками.
– Прыгай, Федотов-первый, в постель! Спать!
Свет в лампах убавили, на стенах обозначились окна.
– Как тебя зовут? – спросил сосед.
– Федотов.
– Ты откуда?
– Я с Огородников.
– А я костромской, – ответил сосед. – Я завтра покажу тебе голубей, я их уже полгода кормлю и не попался.
Утро влезло в окно серой львиной мордой с каменным кольцом в зубах.
Вдали, за серебряным снегом, за полянами и избами, златоглавая Москва. Из корпуса она казалась цветной и веселой: среди золотых глав поднимались, извиваясь и кривясь, легкие синие дымы московских печей.
В корпусе было много колонн, комнат, коридоров, лестниц с перилами, украшенными бронзой, но кадеты в нем жили бедно и даже голодали, особенно с утра. Утром давали сбитень – горячую воду с имбирем и патокой; к этому прилагалась небольшая пеклеванная булка.
Кадетов много и охотно секли, приговаривая:
– Реже! Крепче!
Секли по понедельникам. В этот день, после занятий, корпус замолкал. Под барабан по восемь человек в смену водили сечь кадетов, и слышен был из дальнего зала вой, потом перерыв, и под барабан по коридору шагала, равняясь, новая восьмерка.
При сечении иногда присутствовал сам директор, человек чувствительный. Он закрывал глаза то рукой, то чистым носовым платком, а иногда даже плакал, приговаривая:
– Крепче! Реже!..
Ложиться на скамейку лучше самому, и считалось удалью не кричать. Удалью считалось быть отчаянным, хотя за это можно было получить выключку и попасть юнкером на Кавказ.

«Жили-были» — книга, которую известный писатель В. Шкловский писал всю свою долгую литературную жизнь. Но это не просто и не только воспоминания. Кроме памяти мемуариста в книге присутствует живой ум современника, умеющего слушать поступь времени и схватывать его перемены. В книге есть вещи, написанные в двадцатые годы («ZOO или Письма не о любви»), перед войной (воспоминания о Маяковском), в самое последнее время («Жили-были» и другие мемуарные записи, которые печатались в шестидесятые годы в журнале «Знамя»). В. Шкловский рассказывает о людях, с которыми встречался, о среде, в которой был, — чаще всего это люди и среда искусства.

« Из радиоприемника раздался спокойный голос: -Профессор, я проверил ваш парашют. Старайтесь, управляя кривизной парашюта, спуститься ближе к дороге. Вы в этом тренировались? - Мало. Берегите приборы. Я помогу открыть люк. ».

Виктор Борисович Шкловский (1893–1984) — писатель, литературовед, критик, киносценарист, «предводитель формалистов» и «главный наладчик ОПОЯЗа», «enfant terrible русского формализма», яркий персонаж литературной жизни двадцатых — тридцатых годов. Жизнь Шкловского была длинная, разнообразная и насыщенная. Такой получилась и эта книга. «Воскрешение слова» и «Искусство как прием», ставшие манифестом ОПОЯЗа; отрывки из биографической прозы «Третья фабрика» и «Жили-были»; фрагменты учебника литературного творчества для пролетариата «Техника писательского ремесла»; «Гамбургский счет» и мемуары «О Маяковском»; письма любимому внуку и многое другое САМОЕ ШКЛОВСКОЕ с точки зрения составителя книги Александры Берлиной.

Книга эта – первое наиболее полное собрание статей (1910 – 1930-х годов) В. Б. Шкловского (1893 – 1984), когда он очень активно занимался литературной критикой. В нее вошли работы из ни разу не переиздававшихся книг «Ход коня», «Удачи и поражения Максима Горького», «Пять человек знакомых», «Гамбургский счет», «Поиски оптимизма» и др., ряд неопубликованных статей. Работы эти дают широкую панораму литературной жизни тех лет, охватывают творчество М. Горького, А. Толстого, А. Белого. И Бабеля. Б. Пильняка, Вс. Иванова, M.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

«Заслон» — это роман о борьбе трудящихся Амурской области за установление Советской власти на Дальнем Востоке, о борьбе с интервентами и белогвардейцами. Перед читателем пройдут сочно написанные картины жизни офицерства и генералов, вышвырнутых революцией за кордон, и полная подвигов героическая жизнь первых комсомольцев области, отдавших жизнь за Советы.

Жестокой и кровавой была борьба за Советскую власть, за новую жизнь в Адыгее. Враги революции пытались в своих целях использовать национальные, родовые, бытовые и религиозные особенности адыгейского народа, но им это не удалось. Борьба, которую Нух, Ильяс, Умар и другие адыгейцы ведут за лучшую долю для своего народа, завершается победой благодаря честной и бескорыстной помощи русских. В книге ярко показана дружба бывшего комиссара Максима Перегудова и рядового буденновца адыгейца Ильяса Теучежа.

Автобиографические записки Джеймса Пайка (1834–1837) — одни из самых интересных и читаемых из всего мемуарного наследия участников и очевидцев гражданской войны 1861–1865 гг. в США. Благодаря автору мемуаров — техасскому рейнджеру, разведчику и солдату, которому самые выдающиеся генералы Севера доверяли и секретные миссии, мы имеем прекрасную возможность лучше понять и природу этой войны, а самое главное — характер живших тогда людей.

В 1959 году группа туристов отправилась из Свердловска в поход по горам Северного Урала. Их маршрут труден и не изведан. Решив заночевать на горе 1079, туристы попадают в условия, которые прекращают их последний поход. Поиски долгие и трудные. Находки в горах озадачат всех. Гору не случайно здесь прозвали «Гора Мертвецов». Очень много загадок. Но так ли всё необъяснимо? Автор создаёт документальную реконструкцию гибели туристов, предлагая читателю самому стать участником поисков.

Мемуары де Латюда — незаменимый источник любопытнейших сведений о тюремном быте XVIII столетия. Если, повествуя о своей молодости, де Латюд кое-что утаивал, а кое-что приукрашивал, стараясь выставить себя перед читателями в возможно более выгодном свете, то в рассказе о своих переживаниях в тюрьме он безусловно правдив и искренен, и факты, на которые он указывает, подтверждаются многочисленными документальными данными. В том грозном обвинительном акте, который беспристрастная история составила против французской монархии, запискам де Латюда принадлежит, по праву, далеко не последнее место.