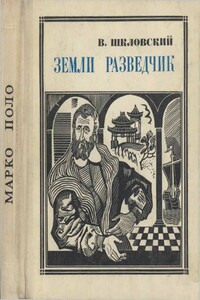Повесть о художнике Федотове - [2]
Андрей Федотов знал службу и не умел прощать. Честностью обладал он безмерною, но она, как у многих честных стариков, перенесших многое в жизни, облечена была в формы суровые, жесткие. Отец художника был человеком взыскательным.
Зима в тесных горницах маленького дома на Огородниках казалась печальной и долгой; в комнатах царила тишина. Окна доверху покрывались ледяными деревьями и листьями. От жарко натопленной печи было угарно; против угара употребляли средство – вносили в комнаты тарелку со снегом: говорили, что снег вбирает угар.
В морозы катались с горки на доске, обмазанной навозом и обмороженной. Катались и на обмороженном решете, но в решето садились только девочки.
Весна начиналась с грязи и с луж, потом на высокие деревья около церкви Харитония с криком прилетали грачи. Во всю ширину улицы стояли лужи, и в них отражались деревья, заборы и невысокие дома. Около луж чирикали и плескались, умывались воробьи. Если взять щепку, то можно раскопать канавку, и лужа убегает; она бежит в ручей, который течет туда, вниз, к Каланчевке. Вместо лужи остается грязь, и по грязи можно шлепать босыми ногами. Простуды не боялись: Павел Федотов был мальчик плотный, румяный, красногубый, белозубый, черноглазый и широкоплечий. Он хорошо играл в городки и умел бросать в кольцо свайку.
Весной на лугах появлялись цветы, пестрые, как детвора: колокольчики, клевер, ромашка; в саду вырастала зоря с блестящими перистыми листьями, с гладким стеблем, из которого делали дудочки.
Интересно было в городе. На площадях стояли раешники; они вертели ручку райка, приговаривая:
– По копейке! По копейке!
Раек похож на маленький домик, поставленный на легкий раскидной столик; домик покрыт двускатной крышей, а на передней стенке сделаны четыре круглых окошка: через них смотрели внутрь райка.
Раешник – обычно человек молодой, в высоком картузе, в нарядном, хотя и поношенном, кафтане.
Раешник оживлен и сладкоречив.
Дети стояли в стороне: копейки не было.
Объяснения при смене картинок, соединенных вскладень, давали в рифму:
– А вот, изволите видеть, господа, андерманир[2] штук, хороший вид: город Кострома горит. А вот андерманир – другой вид: Петр Первый стоит, государь был славный, а притом и православный. А вот андерманир штук: город Палеромо стоит, барская фамилия по улицам чинно гуляет и нищих тальянских русскими деньгами щедро наделяет. А вот, изволите посмотреть другой андерманир штук – другой вид: Успенский собор в Москве стоит, нищих в нем бьют, ничего не дают.
Москва любила говорить, петь, рисовать. Дети шли в Китай-город, выходили на Красную площадь, считали купола церкви Василия Блаженного, бродили между торговыми рядами. В дощатых палатках пестрели лубки на веревочках. На лубках – войны, победы, генералы и рядом картина о том, как мыши кота хоронили. Все картины с надписями. Их можно долго рассматривать. Здесь же предлагали купить лаковые табакерки с разными рисунками, с портретами Кутузова, Багратиона, Платова. А больше всего было рисунков, изображающих пожар Москвы.
В палатках продавали точеную посуду и другие деревянные, пестро раскрашенные диковинки; прокаленная в печи олифа, положенная на олово и испещренная красками, блестела, как драгоценный камень.
Здесь в первый раз встретился будущий художник с живописью.
Посылали его сюда купить сахару восьмушку, чая на заварку, но больше он приходил сюда сам: посмотреть, послушать.
В рядах шумели покупатели, говорили и кричали купцы, пели нищие.
Хвастались в старой купеческо-мещанской Москве многим: точеной посудой, табаком, лаковыми табакерками, Василием Блаженным и Царь-пушкой.
Была молва, что та пушка одним выстрелом могла побить всех французов, но не посмели из нее стрелять, потому что выхлынула бы Москва-река из берегов и затопила бы весь город.
На Москве-реке скрипели причалами баржи, черные снасти темнели на синем небе.
Шло лето. Сады отцветали, наливались ягоды; потом по улицам начинали ходить обручники – по всему околотку раздавался стук набиваемых на кадки новых дубовых обручей. Обручник – старый солдат; набивает обручи и рассказывает о Берлине, о Париже, о дальних походах, мягких, пыльных дорогах и о дорогах кирпичных, о победах, поражениях.
Кончалась работа обручника – начинали парить кадки: это значило, что скоро поспеют огурцы.
На траве зорюшке появлялись маленькие овальные, сжатые со спины плодики; их звали просвирками.
На больших рынках стояли возы с сеном; воз взвешивали на огромных весах и везли домой. Воз с сеном шумит в воротах, задевает вереи сухой травы, въезжает во двор.
Сено дают попробовать корове, и отец, который покупает сено сам, волнуется так, как будто принес важную бумагу на подпись самому директору департамента. Корова ест, в ее голубых глазах отражаются многокупольная церковь и маленький дом.
Сено вилами бросают на сеновал. Теперь можно забраться в сенник и оттуда смотреть, как военачальник с горы; с сеновала видна сизая, старая Сухарева башня и другая, ближняя, белая – Меншиковская, ее зовут «невестой Ивана Великого».
У огородников покупали огурцы. Огурцы мыли, готовили рассол, клали в рассол чеснок и дубовые листья, для того чтобы огурцы были крепкими.

«Жили-были» — книга, которую известный писатель В. Шкловский писал всю свою долгую литературную жизнь. Но это не просто и не только воспоминания. Кроме памяти мемуариста в книге присутствует живой ум современника, умеющего слушать поступь времени и схватывать его перемены. В книге есть вещи, написанные в двадцатые годы («ZOO или Письма не о любви»), перед войной (воспоминания о Маяковском), в самое последнее время («Жили-были» и другие мемуарные записи, которые печатались в шестидесятые годы в журнале «Знамя»). В. Шкловский рассказывает о людях, с которыми встречался, о среде, в которой был, — чаще всего это люди и среда искусства.

« Из радиоприемника раздался спокойный голос: -Профессор, я проверил ваш парашют. Старайтесь, управляя кривизной парашюта, спуститься ближе к дороге. Вы в этом тренировались? - Мало. Берегите приборы. Я помогу открыть люк. ».

Виктор Борисович Шкловский (1893–1984) — писатель, литературовед, критик, киносценарист, «предводитель формалистов» и «главный наладчик ОПОЯЗа», «enfant terrible русского формализма», яркий персонаж литературной жизни двадцатых — тридцатых годов. Жизнь Шкловского была длинная, разнообразная и насыщенная. Такой получилась и эта книга. «Воскрешение слова» и «Искусство как прием», ставшие манифестом ОПОЯЗа; отрывки из биографической прозы «Третья фабрика» и «Жили-были»; фрагменты учебника литературного творчества для пролетариата «Техника писательского ремесла»; «Гамбургский счет» и мемуары «О Маяковском»; письма любимому внуку и многое другое САМОЕ ШКЛОВСКОЕ с точки зрения составителя книги Александры Берлиной.

Книга эта – первое наиболее полное собрание статей (1910 – 1930-х годов) В. Б. Шкловского (1893 – 1984), когда он очень активно занимался литературной критикой. В нее вошли работы из ни разу не переиздававшихся книг «Ход коня», «Удачи и поражения Максима Горького», «Пять человек знакомых», «Гамбургский счет», «Поиски оптимизма» и др., ряд неопубликованных статей. Работы эти дают широкую панораму литературной жизни тех лет, охватывают творчество М. Горького, А. Толстого, А. Белого. И Бабеля. Б. Пильняка, Вс. Иванова, M.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

«Заслон» — это роман о борьбе трудящихся Амурской области за установление Советской власти на Дальнем Востоке, о борьбе с интервентами и белогвардейцами. Перед читателем пройдут сочно написанные картины жизни офицерства и генералов, вышвырнутых революцией за кордон, и полная подвигов героическая жизнь первых комсомольцев области, отдавших жизнь за Советы.

Жестокой и кровавой была борьба за Советскую власть, за новую жизнь в Адыгее. Враги революции пытались в своих целях использовать национальные, родовые, бытовые и религиозные особенности адыгейского народа, но им это не удалось. Борьба, которую Нух, Ильяс, Умар и другие адыгейцы ведут за лучшую долю для своего народа, завершается победой благодаря честной и бескорыстной помощи русских. В книге ярко показана дружба бывшего комиссара Максима Перегудова и рядового буденновца адыгейца Ильяса Теучежа.

Автобиографические записки Джеймса Пайка (1834–1837) — одни из самых интересных и читаемых из всего мемуарного наследия участников и очевидцев гражданской войны 1861–1865 гг. в США. Благодаря автору мемуаров — техасскому рейнджеру, разведчику и солдату, которому самые выдающиеся генералы Севера доверяли и секретные миссии, мы имеем прекрасную возможность лучше понять и природу этой войны, а самое главное — характер живших тогда людей.

В 1959 году группа туристов отправилась из Свердловска в поход по горам Северного Урала. Их маршрут труден и не изведан. Решив заночевать на горе 1079, туристы попадают в условия, которые прекращают их последний поход. Поиски долгие и трудные. Находки в горах озадачат всех. Гору не случайно здесь прозвали «Гора Мертвецов». Очень много загадок. Но так ли всё необъяснимо? Автор создаёт документальную реконструкцию гибели туристов, предлагая читателю самому стать участником поисков.

Мемуары де Латюда — незаменимый источник любопытнейших сведений о тюремном быте XVIII столетия. Если, повествуя о своей молодости, де Латюд кое-что утаивал, а кое-что приукрашивал, стараясь выставить себя перед читателями в возможно более выгодном свете, то в рассказе о своих переживаниях в тюрьме он безусловно правдив и искренен, и факты, на которые он указывает, подтверждаются многочисленными документальными данными. В том грозном обвинительном акте, который беспристрастная история составила против французской монархии, запискам де Латюда принадлежит, по праву, далеко не последнее место.