Последняя милость - [9]
Я часто задумывался: не с тайным ли облегчением приняла Софи мой первый отказ, и, когда она предлагалась, не было ли в этом немалой доли самопожертвования? Еще слишком свежа была в ней память о единственном горьком опыте, и оттого в вопросах плотской любви она была смелее иных женщин, но и страшилась ее больше. Кроме того, моя Софи была робка: этим объяснялись приступы ее решимости. Она была слишком юна и не подозревала о том, что жизньсостоит не из внезапных порывов и упрямой неуступчивости, а из компромиссов и прощений. С этой точки зрения она так и осталась бы слишком юной на всю жизнь, даже если бы умерла в шестьдесят. Но Софи очень скоро миновала тот этап, когда подарить себя — это поступок, продиктованный страстью, и пришла к состоянию, в котором отдаться — так же естественно, как дышать, чтобы жить. Я стал с этих пор ее ответом себе самой, и все предшествующие горести казались ей вполне убедительно объяснимыми моим отсутствием. Она страдала, потому что солнце любви еще не озарило ее жизнь, а впотьмах вдвойне тяжело было брести по неровным дорогам, на которые забросили ее превратности времени. Теперь, полюбив, она отбрасывала одно за другим последние колебания так же просто, как иззябший путник скидывает на солнце промокшую одежду, и предстала передо мною обнаженной, как никто и никогда. И может статься, исчерпав столь жутким образом все свои страхи перед мужчиной и весь отпор, она после этого только и могла предложить своей первой любви эту восхитительную податливость плода, который одинаково просится в уста и под нож. Такая страсть готова на все и довольствуется малым: мне достаточно было войти в комнату, где находилась Софи, и на ее лицо тотчас снисходило выражение покоя и отдохновения, какое бывает у человека в постели. Когда я до нее дотрагивался, мне казалось, будто вся кровь в ее жилах превращается в мед. Но и лучший мед в конце концов забродит; я тогда и не подозревал, что заплачу сторицей за каждую мою вину перед ней и что смирение, с которым Софи все принимала, зачтется мне отдельно. Софи со своей любовью была в моих руках, как перчатка из мягкой и одновременно прочной ткани; когда я оставлял ее, то, случалось, находил полчаса спустя на том же месте, точно забытую вещь. Я чередовал грубости с нежностями, но все они преследовали одну цель: заставить ее любить и страдать еще сильней, и тщеславие связало меня с нею так же крепко, как связало бы желание. Позже, когда она стала что-то значить для меня, нежности я исключил. Я был уверен, что Софи никому не признается в своих мучениях, но до сих пор удивляюсь, почему она не выбрала в наперсники Конрада, чтобыделиться с ним нашими редкими радостями. Должно быть, уже тогда между нами существовало молчаливое соглашение: мы как будто договорились считать Конрада ребенком.
Когда рассказывают, всегда кажется, что трагедии разыгрываются в пустоте, — а ведь окружение тоже играет. То счастье или несчастье, что выпало нам в Кратовице, имело декорацией длинные коридоры с заколоченными окнами, где все то и дело на что-то натыкались, гостиную, из которой большевики вынесли только коллекцию китайского оружия и где продырявленный штыком женский портрет смотрел на нас из простенка, словно посмеиваясь над моим приключением; играло свою роль и время: мы жили в нетерпеливом ожидании наступления, каждый день готовясь принять смерть. Женщинам создают преимущества туалетный столик, совещания с парикмахером и портнихой, всевозможные зеркала, отражающие жизнь, очень непохожую, что ни говори, на жизнь мужчины и зачастую наглухо для него закрытую. Софи же имела их в силу сомнительных удобств дома, превращенного в битком набитую казарму, своего розового шерстяного белья, которое ей волей-неволей приходилось штопать у нас на глазах при свете лампы, наших рубашек, которые она стирала мылом, сваренным здесь же, в усадьбе, отчего у нее трескались руки. От этого тесного соприкосновения при постоянной готовности к бою мы жили словно с содранной кожей, одновременно очерствев. Помню, как однажды вечером Софи взялась зарезать и ощипать для нас несколько тощих кур — я никогда не видел на столь решительном лине такого полного отсутствия жестокости. Я сдул одну за другой несколько пушинок, запутавшихся в ее волосах; руки ее пахли кровью. Она возвращалась после хозяйственных работ, еле волоча ноги в тяжелых валенках, сбрасывала куда придется мокрую шубку, отказывалась есть, а иногда с жадностью набрасывалась на отвратительные блины, которые с завидным упорством пекла нам из испорченной муки. От такого образа жизни она худела.
Софи старалась для всех нас, нодостаточно было одной улыбки, и я понимал, что служит она мне одному. Должно быть, она была добра по натуре, так как упустила не один случай заставить меня страдать. Потерпев фиаско, которого женщины не прощают, она повела себя так, как ведут себя мужественные сердцем, столкнувшись с безнадежностью: стала искать, занявшись самобичеванием, худших объяснений в себе самой; она судила себя так, как судила бы себя, к примеру, тетя Прасковья, будь тетя Прасковья на это способна. Софи сочла себя недостойной — перед такой чистотой помыслов впору было упасть на колени. Однако ни на миг ей не пришло в голову взять назад обещание подарить себя: для нее это было столь же бесповоротно, как если бы я принял ее дар. Это была характерная черточка ее надменной натуры: если бедняк не принимал подаяния, она не забирала его назад. Она презирала меня, я уверен и хочу на это надеяться ради нее, но все презрение, сколько его есть на свете, не помешало бы ей в порыве любви целовать мне руки. Я с жадностью всматривался в нее, подстерегая гневный жест, заслуженный упрек, какой угодно поступок, равный для нее святотатству, но она неизменно держала высоту, которой я требовал от ее абсурдной любви. Любой ее промах был бы для меня облегчением и разочарованием одновременно. Она сопровождала меня, когда я выходил на рекогносцировку в парк, — для нее это, наверное, были прогулки обреченных. Я любил холодные капли дождя на наших затылках, ее волосы, слипшиеся, как и мои, от влаги, кашель, который она заглушала, прижимая ладонь к губам, ее пальцы, теребившие тростинку, когда мы шли вдоль гладкого, без единой морщинки, пустынного пруда, в котором плавал в тот день труп солдата вражеской армии. Она вдруг прислонялась к дереву, и четверть часа кряду я позволял ей говорить мне о любви. Однажды, промокнув до костей, мы вынуждены были укрыться в развалинах охотничьего домика. Мы разделись рядом в тесной комнате, над которой уцелела крыша; из какой-то лихой бравады я обращался с моей противницей по-дружески. Закутавшись в конскую попону, она развела огонь и высушила мою форму и свое шерстяное платьице. На обратном пути нам пришлось несколько раз хорониться от пуль; я обнимал ее за талию, как любовник, и силой заставлял лечь рядом со мной в канаву — этот жест доказывал, что я все же не хочу, чтобы она умерла. Терзая ее непрестанно, я злился, видя, как то и дело вспыхивает в ее глазах дивный свет надежды: была в ней эта уверенность в своем праве, которую женщины сохраняют до смертной муки. Столь трогательное неприятие безнадежности подтверждает правоту католического учения, которое отводит почти невинным душам место в чистилище вместо того, чтобы низвергнуть их в ад. Из нас двоих жалости была достойна она; ей же выпал лучший удел.
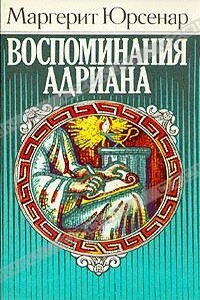
Вымышленные записки-воспоминания римского императора в поразительно точных и живых деталях воскрешают эпоху правления этого мудрого и просвещенного государя — полководца, философа и покровителя искусств, — эпоху, ставшую «золотым веком» в истории Римской империи. Автор, выдающаяся писательница Франции, первая женщина — член Академии, великолепно владея историческим материалом и мастерски используя достоверные исторические детали, рисует Адриана человеком живым, удивительно близким и понятным нашему современнику.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Эссе М.Юрсенар, посвященное отражению римской истории в Истории Августа — сборнике составленных разными авторами и выстроенных в хронологическом порядке биографий римских императоров (августов).

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
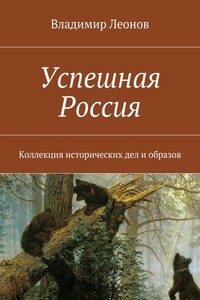
Из великого прошлого – в гордое настоящее и мощное будущее. Коллекция исторических дел и образов, вошедших в авторский проект «Успешная Россия», выражающих Золотое правило развития: «Изучайте прошлое, если хотите предугадать будущее».

«На берегу пустынных волн Стоял он, дум великих полн, И вдаль глядел». Великий царь мечтал о великом городе. И он его построил. Град Петра. Не осталось следа от тех, чьими по́том и кровью построен был Петербург. Но остались великолепные дворцы, площади и каналы. О том, как рождался и жил юный Петербург, — этот роман. Новый роман известного ленинградского писателя В. Дружинина рассказывает об основании и первых строителях Санкт-Петербурга. Герои романа: Пётр Первый, Меншиков, архитекторы Доменико Трезини, Михаил Земцов и другие.

Роман переносит читателя в глухую забайкальскую деревню, в далекие трудные годы гражданской войны, рассказывая о ломке старых устоев жизни.
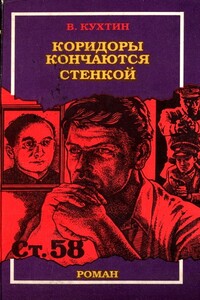
Роман «Коридоры кончаются стенкой» написан на документальной основе. Он являет собой исторический экскурс в большевизм 30-х годов — пору дикого произвола партии и ее вооруженного отряда — НКВД. Опираясь на достоверные источники, автор погружает читателя в атмосферу крикливых лозунгов, дутого энтузиазма, заманчивых обещаний, раскрывает методику оболванивания людей, фальсификации громких уголовных дел.Для лучшего восприятия времени, в котором жили и «боролись» палачи и их жертвы, в повествование вкрапливаются эпизоды периода Гражданской войны, раскулачивания, расказачивания, подавления мятежей, выселения «непокорных» станиц.

Новый роман известного писателя Владислава Бахревского рассказывает о церковном расколе в России в середине XVII в. Герои романа — протопоп Аввакум, патриарх Никон, царь Алексей Михайлович, боярыня Морозова и многие другие вымышленные и реальные исторические лица.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.