Последний Новик. Том 1 - [96]
– Не к вам ли ближе это идет, господин пастор?
При этом вопросе Аполлон выпучил глаза и открыл рот.
Пастор, будто по предчувствию, дрожащими руками ухватился за тетрадь и, лишь только взглянул на первые слова заглавия, обратился с гневом к Дихтерлихту:
– Господин Аполлон! похитив у царя Адмета[235] его овец, не вздумали ли вы прибрать к своим рукам и мое достояние?
– Ваше достояние, господин пастор! ваше?.. – произнес, горько усмехаясь, карикатурный бог. – Не благоугодно ли вам шуткою произвесть смехотворение в сем почтеннейшем обществе? Аполлон всегда готов отвечать Минерве.
– Какое неслыханное нахальство! – воскликнул пастор. – Говорю вам не шутя, что вы украли мое сочинение.
– О! когда так, то я объявляю всенародно, что это моя собственность, родное дитя мое: я, я, сударь, его отец и права на него не отдам никому! Право это готов защищать пером, лирою, законом и кровью моею, столь громко ныне вопиющею.
– Наглец неблагодарный! – кричал Глик, не помня себя от гнева. – Дерзость неимоверная в летописях мира! Как? воспользоваться моим добродушием; бесстыдно похитить плоды многолетних трудов моих! К суду вашему обращаюсь, именитое дворянство лифляндское! Имея в виду одно ваше благо, благо Лифляндии, я соорудил это творение, готовился посвятить его вам, и вдруг… Вступитесь за собственное свое дело, господа! Одно заглавие скажет вам…
– Это проект адреса королю о возвращении прав лифляндскому рыцарству и земству, – сказал кто-то, прочтя из-за плеч пастора заглавие спорного сочинения.
– Адрес! адрес! – повторили в толпе.
– О правах, давно забытых, – произнес кто-то.
– Втоптанных в грязь до того, что нельзя уж различить на них ни одной буквы, – прибавил другой.
– Следственно, вы признаете, милостивые государи, что адрес, мною… – мог только сказать пастор, как перебил его речь стоявший возле него дворянин, у которого редукциею отнята была большая часть имения.
– Без голоса нет права, – сказал он иронически, – а наш голос давно заглушен воинским боем, или, лучше сказать, мы служим только барабанною кожею для возвещения маршей и торжеств нового Александра до тех пор, пока станет ее.
– Теперь-то и время подать адрес, – произнес умилительно Глик.
– Время! – воскликнул кто-то. – Да разве вы не знаете, господин пастор, что лучшее время говорить о правах наступит, когда они кровью и огнем напишутся на стенах наших домов и слезами жен и детей наших вытравятся на железе наших цепей!
– Тише, тише, господа! – перебил насмешливо студент, закручивая усы и побренчивая шпагою. – Здесь есть шведские офицеры.
– Благородный воин никогда не берется за ремесло доносчика, – возразил с негодованием один шведский драгунский офицер, покачивая со стороны на сторону свою жесткую лосиную перчатку, – но всегда готов укоротить языки, оскорбляющие честь его государя.
– Аминь, аминь! – кричал пастор.
– Неприличное место выбрали, господа, для диспута, – говорили несколько лифляндских офицеров и дворян, благоразумнее других. – Не худо заметить, что мы, провозглашая о правах, нарушили священные права гостеприимства и потеряли всякое уважение к прекрасному полу; не худо также вспомнить, что мы одного государя подданные, одной матери дети.
– Разве одной злой мачехи! – кричали многие.
Продолжали спорить и тихомолком назначали поединки. Заметно было, что волнение, произведенное между посетителями, было приготовлено. Для утишения поднявшейся бури принуждены были наконец послать депутатов к баронессе, все еще занятой дипломатической беседой с ученым путешественником Зибенбюргером, очаровавшим ее совершенно. Многие женщины от страха разбежались по комнатам; другие, боясь попасть навстречу баронессе, следственно, из огня в полымя, остались на своих местах. Луиза, стоя на иголках, искала себе опоры в милой Кете, но не могла найти ее кругом себя; пригожие Флора и Помона дожидались с трепетом сердечным, когда Аполлон прикажет им начать свое приветствие новорожденной; народ, вдыхая в себя запах съестных припасов и вина, роптал, что бестолковые господа так долго искушают их терпение.
Что происходило в это время с самим Аполлоном? Подойдя к пастору Глику и успев пробежать глазами первый листок чудесной тетради, он, видимо, обомлел, начал оглядываться, пересмотрел еще раз тетрадь, ощупал ее, ощупал себе голову и сказал с сердцем:
– Если в это дело сам лукавый не вмешался, то я не знаю, что подумать о перемене моего «Похвального Слова дщери баронской» на адрес «Его величеству и благодетелю нашему, королю шведскому».
Явилась на террасу баронесса Зегевольд, и с ее появлением раздор утих, как в «Энеиде»[236] взбунтовавшее море с прикриком на него Нептуна. Не подавая вида, что знает о бывшем неблагопристойном шуме, она шепнула Никласзону, чтобы он подвинул вперед богинь. Флора первая из них подошла к Луизе и, поднося ей цветы, сказала:
– Прими сии плоды…
– Плоды? Какие плоды? – перебил сердито Аполлон.
– Меня так учил господин Бир, – отвечала смущенная и оробевшая Флора.
– Да вы кто такая? – спросил грозным голосом бог песнопения.
– Каролинхен, к вашим услугам, – отвечала опять простодушно девушка, приседая.

События «громового 1812 года» послужили переломным моментом в жизни и творчестве Лажечникова. Много позже в автобиографическом очерке «Новобранец 1812 года» (1858) Лажечников расскажет о том, какой взрыв патриотических чувств вызвало в нем известие о вступлении французов в Москву: оно заставило его бежать из дома, поступить вопреки воле родителей в армию и проделать вместе с ней победоносный путь от Москвы до Парижа.И.И.Лажечников. «Басурман. Колдун на Сухаревой башне. Очерки-воспоминания», Издательство «Советская Россия», Москва, 1989 Художник Ж.В.Варенцова Примечания Н.Г.Ильинская Впервые напечатано: Лажечников И.И.
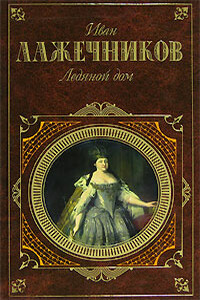
И.И. Лажечников (1792–1869) – один из лучших наших исторических романистов. А.С. Пушкин так сказал о романе «Ледяной дом»: «…поэзия останется всегда поэзией, и многие страницы вашего романа будут жить, доколе не забудется русский язык». Обаяние Лажечникова – в его личном переживании истории и в удивительной точности, с которой писатель воссоздает атмосферу исследуемых эпох. Увлекательность повествования принесла ему славу «отечественного Вальтера Скотта» у современников.
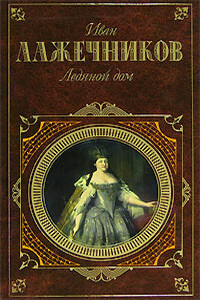
И.И. Лажечников (1792–1869) – один из лучших наших исторических романистов. А.С. Пушкин так сказал о романе «Ледяной дом»: «…поэзия останется всегда поэзией, и многие страницы вашего романа будут жить, доколе не забудется русский язык». Обаяние Лажечникова – в его личном переживании истории и в удивительной точности, с которой писатель воссоздает атмосферу исследуемых эпох. Увлекательность повествования принесла ему славу «отечественного Вальтера Скотта» у современников.

В историческом романе известного русского писателя И.И. Лажечникова «Последний Новик» рассказывается об одном из периодов Северной войны между Россией и Швецией – прибалтийской кампании 1701–1703 гг.

Опричник. Трагедия в пяти действиях. (1845)(Лажечников И. И. Собрание сочинений. В 6 томах. Том 6. М.: Можайск — Терра, 1994. Текст печатается по изданию: Лажечников И. И. Полное собрание сочинений. С.-Петербург — Москва, товарищество М. О. Вольф, 1913)

Иван Иванович Лажечников (1792–1869) широко известен как исторический романист. Однако он мало известен, как военный мемуарист. А ведь литературную славу ему принесло первое крупное произведение «Походные записки русского офицера 1812, 1813, 1814 и 1815 годов», которые отличаются высоким патриотическим пафосом и взглядом на Отечественную войну как на общенародное дело, а не как на «историю генералов 1812 года».Сожженная и опустевшая Москва, разрушенный Кремль, преследование русскими отступающей неприятельской армии, голодавшие и замерзавшие французы, ночные бивуаки, офицерские разговоры, картины заграничной жизни живо и ярко предстают со страниц «Походных записок».

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
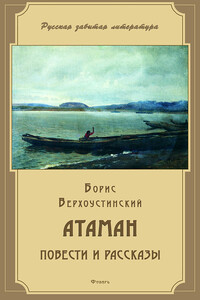
«Набережная Волги кишела крючниками — одни курили, другие играли в орлянку, третьи, развалясь на булыжинах, дремали. Был обеденный роздых. В это время мостки разгружаемых пароходов обыкновенно пустели, а жара до того усиливалась, что казалось, вот-вот солнце высосет всю воду великой реки, и трехэтажные пароходы останутся на мели, как неуклюжие вымершие чудовища…» В сборник малоизвестного русского писателя Бориса Алексеевича Верхоустинского вошли повести и рассказы разных лет: • Атаман (пов.
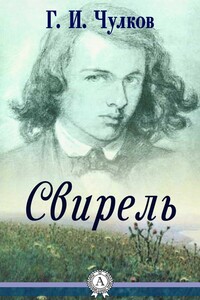
«Свирель» — лирический рассказ Георгия Ивановича Чулкова (1879–1939), поэта, прозаика, публициста эпохи Серебряного века русской литературы. Его активная деятельность пришлась на годы расцвета символизма — поэтического направления, построенного на иносказаниях. Чулков был известной персоной в кругах символистов, имел близкое знакомство с А.С.Блоком. Плод его философской мысли — теория «мистического анархизма» о внутренней свободе личности от любых форм контроля. Гимназисту Косте уже тринадцать. Он оказывается на раздорожье между детством и юностью, но главное — ощущает в себе непреодолимые мужские чувства.

Перед Долли Фостер встал тяжёлый выбор. Ведь за ней ухаживают двое молодых людей, но она не может выбрать, за кого из них выйти замуж. Долли решает узнать, кто же её по-настоящему любит. В этом ей должна помочь обычная ветка шиповника.

На что только не пойдёшь ради собственной рекламы. Ведь если твоё имя напечатают в газетах, то переманить пациентов у своих менее достойных коллег не составит труда. И если не помогают испытанные доселе верные средства, то остаётся лишь одно — уговорить своего друга изобразить утопленника, чудом воскресшего благодаря стараниям никому дотоле неизвестного доктора Томаса Краббе.

Франсиско Эррера Веладо рассказывает о Сальвадоре 20-х годов, о тех днях, когда в стране еще не наступило «черное тридцатилетие» военно-фашистских диктатур. Рассказы старого поэта и прозаика подкупают пронизывающей их любовью к простому человеку, удивительно тонким юмором, непринужденностью изложения. В жанровых картинках, написанных явно с натуры и насыщенных подлинной народностью, видный сальвадорский писатель сумел красочно передать своеобразие жизни и быта своих соотечественников. Ю. Дашкевич.

Княгиня Екатерина Романовна Дашкова (1744–1810) — русский литературный деятель, директор Петербургской АН (1783–1796), принадлежит к числу выдающихся личностей России второй половины XVIII в. Активно участвовала в государственном перевороте 1762 г., приведшем на престол Екатерину II, однако влияние ее в придворных кругах не было прочным. С 1769 г. Дашкова более 10 лет провела за границей, где встречалась с видными политическими деятелями, писателями и учеными — А. Смитом, Вольтером, Д. Дидро и др. По возвращении в Россию в 1783 г.

Павел Петрович Свиньин (1788–1839) был одним из самых разносторонних представителей своего времени: писатель, историк, художник, редактор и издатель журнала «Отечественные записки». Находясь на дипломатической работе, он побывал во многих странах мира, немало поездил и по России. Свиньин избрал уникальную роль художника-писателя: местности, где он путешествовал, описывал не только пером, но и зарисовывал, называя свои поездки «живописными путешествиями». Этнографические очерки Свиньина вышли после его смерти, под заглавием «Картины России и быт разноплеменных ее народов».

Во времена Ивана Грозного над Россией нависла гибельная опасность татарского вторжения. Крымский хан долго готовил большое нашествие, собирая союзников по всей Великой Степи. Русским полкам предстояло выйти навстречу врагу и встать насмерть, как во времена битвы на поле Куликовом.

Поздней осенью 1263 года князь Александр возвращается из поездки в Орду. На полпути к дому он чувствует странное недомогание, которое понемногу растёт. Александр начинает понимать, что, возможно, отравлен. Двое его верных друзей – старший дружинник Сава и крещённый в православную веру немецкий рыцарь Эрих – решают немедленно ехать в ставку ордынского хана Менгу-Тимура, чтобы выяснить, чем могли отравить Александра и есть ли противоядие.