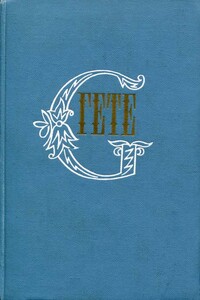К сожалению, выговаривали они это робко, едва слышно, точно перекликались с тех разных углов, по которым они были рассеяны. Их почти не заметно было, они точно затерялись, бедные, простые и маленькие, в массе всего высокого, торжественного и геройского, выставленного прежним нашим искусством. Но что, если б они вместо того, чтоб разбросаться кое-как врассыпную по выставке, сдвинулись дружной кучкой, одним сплошным целым, ведь тогда роль наша в новом: искусстве вызначилась бы ярче, сделалась бы вдруг во сто раз выше: мы бы разом получили значение людей, твердо и безвозвратно покончивших со старым и идущих брать тяжелым приступом новые задачи.
Для всех народов Европы всемирные выставки явились великими картинами истории в прошлом и настоящем, великим поучением для будущего. Одни мы смотрим на них какими-то полусонными, полуотворачивающимися от лени глазами. Последняя выставка 1862 года для нас точно не существовала. Мы о ней не заботились до начала ее, не заботились, пока она продолжалась, не заботимся и теперь, после ее окончания. Неужели же так будет и со всеми будущими всемирными выставками?
Цену и важность начинания чувствует лишь тот, кто сам работает и начинает, кого собственный труд научил понимать, сколько лежит будущности в неразвитом еще, едва только распускающемся зерне. Всемирные выставки кажутся нам теперь лишь праздной затеей роскоши, капризом людей, всем пресытившихся, потому что они еще при своем начале, при своих первых попытках. Мы начнем однажды их ценить и понимать, но, конечно, только тогда, когда взойдет вся их жатва, когда другие начнут уже собирать их посев. Вот тут мы вдруг спохватимся, заторопимся, бросимся догонять других, наскоро примыкать к тому, что вошло долгим постепенным процессом в кровь и плоть других.
Авось хоть тогда эти самые выставки пойдут нам впрок, образумят нас и, отучив, наконец, от необыкновенного самодовольства и самовосхищения, приучат смотреть на искусство не поверхностными и фривольными, а углубляющимися, разбирающими глазами.
Попытаемся, однако, даже и теперь взглянуть, каким поучением могла бы послужить нашему искусству выставка 1862 года, эта выставка, еще раз повторяем, тем особенно важная, что для нас она еще первая.
Прежде всего, она научила бы нас тому, что нынче совсем уже не по-прежнему смотрят на искусство. Одно внешнее уменье, одна виртуозность формы не в силах уже удерживать за собою первого места: искусство глядит теперь выше и дальше. «Нельзя довольно повторять, — говорит Пальгрев после всемирной выставки, — что только одна великость души и создает великие картины. Высшее искусство будет то, которое выразит самые широкие и глубокие мысли. Разница между великим и малым искусством лежит не в способах производства, не в стилях, не в выборе сюжетов, но в сущности той цели, к которой направляются; способность и уменье художника». Быть может, еще справедливее будет сказать, что только то произведение и можно считать истинным, имеющим действительно высокое значение, в которое вложено здоровое, истинное содержание, которое создано честной против искусства, преданной ему одному рукой. Какое бы ни было внешнее мастерство, оно пропадает, оно теряет всю свою влиятельную на нас силу, когда служит для целей беззаконных, пустых, легкомысленных или гнилых. Художественное произведение носит на себе неизгладимые следы того настроения, с которым приступал к нему художник: накидной ли жар его наполнял, честолюбие ли блеснуть техникой или жажда догнать других, легкомысленный ли каприз, тяжелое ли бессмыслие, глубокое ли одушевление правды и поэзии — все в нем выступит, как в зеркале, проглянет и сквозь самое блестящее, и сквозь самое скромное уменье производства. Все дело в первоначальном основном настроении, все дело в том, что хотел сказать художник, что ему нужно было выразить в более или менее совершенных формах искусства. Конечно, время наше не меньше любой прежней эпохи способно разуметь значение формы и приходить в восторг от ее красоты; оно никогда не потерпит ее попрания; как бы велико и прекрасно ни было содержание, наше время из-за него одного не помирится с неумелостью формы; больше чем когда-нибудь оно требует от художника строгого, глубокого ученья, мастерства, полнейшего владенья средствами искусства, иначе признает произведение нехудожественным. Но, несмотря на все это, и даже именно вследствие окончательного овладения формою, искусство не считает ее по-прежнему окончательною, главною задачей; она стоит для него на втором уже месте. А при таком понятии к чему же мы нынче приходим? К тому, что живописное или скульптурное уменье производства и способность к созданию картины или статуи — две вещи совершенно разные, разделенные безмерными пропастями. Самый редкий случай именно и есть тот, когда человек, умеющий писать красками и лепить из глины или рубить из мрамора, действительно способен к художественному созданию. Пора смотреть на искусство глубже, заглядывать под блестящую шкурку, которою слишком часто прикрыто не живое тело, не бьющиеся жилы, не крепкие мышцы, а гнилые тряпки и мочалы. «Нам, — говорит Пальгрев, — гораздо нужнее нынче многое забывать, чем вспоминать, из числа художественных произведений».