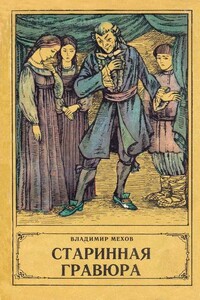После бала - [29]
Я позвала Иди. Я кричала как можно громче, так громко, чтобы не слышать маму.
Иди всегда приходила на помощь. Увидев ее, я перестала кричать, но тогда начала вопить мама – в ярости от присутствия Иди и от боли. Иди быстро ее осмотрела, прощупала руки и ноги, пока мама лежала на коврике в ванной, полунакрытая полотенцем.
– Прости, – мямлила я снова и снова.
– Ее плечо, – сказала Иди, закончив осмотр. Мама, закрыв глаза, милостиво молчала. – Я не думаю, что оно сломано, – продолжила она.
– Вывих.
Я как можно аккуратнее прикоснулась к ее плечу, но мама дернулась. На том месте уже был синяк. Это казалось невозможным: мамино тело было таким слабым, таким истощенным, откуда у него еще силы на синяк?
Она смирилась с помощью Иди: мы перенесли ее в постель, вытерли, одели и накрыли одеялами. Единственным источником света была лишь прикроватная лампа, чему я была рада, потому что так Иди не смогла бы увидеть, каким покалеченным стало мамино тело. Но все-таки она видела, что стало с моей красивой мамой. Я и стыдилась ее, и хотела защитить.
И все же вдвоем справляться было проще, намного проще. Каждый раз, когда мы двигали ее, она стонала, а я проклинала себя за неосторожность. Я никогда ранее не причиняла маме боль. Я лишь облегчала ее – лекарствами, грелкой, массажем. Но в большей степени лекарствами.
Я чуть не плакала, но мне не хотелось бы, чтобы Иди видела это.
– Мне размять ее? – спросила я, подняв в воздух обезболивающую таблетку. – Или ты сможешь проглотить?
Я задавала ей этот вопрос по десять раз в день. Было много таблеток. Чтобы ничего не забыть, я вела таблицу, которую нарисовала на бумаге в клетку из тетрадки по геометрии. Я прикрепила ее возле прикроватной тумбочки, ближе к окну, чтобы она не увидела. Ее разозлило бы то, что какая-то бумажка висит на красивой стене ее красивой комнаты. Она не допустила бы, чтобы от клейкой ленты остался отпечаток. Хотя, возможно, у нее просто не хватило бы сил на злость, и уж тем более на такие вещи, как отпечаток от клейкой ленты.
Если мама отвечала, то это обычно было «проглочу». А если нет, то я толкла таблетку. Мама не хотела смотреть на это, поэтому я отворачивалась от кровати, клала таблетку в ступку и брала пестик. Когда она заговорила, ее голос был совсем ясным, каким не был уже давно:
– Растолки мне тысячу таблеток. Избавь меня от всего этого.
Я взглянула на Иди, которая стояла у маминых ног, достаточно близко, чтобы мне помочь, но достаточно далеко, чтобы мама не могла ее заметить. Ее лицо не выражало ничего.
– Прекрати, – сказала я. – Не говори так.
– Она. – Мама повела подбородком в сторону Иди. – Скажи, чтобы она ушла.
Я опустила глаза на яблочное пюре, которое держала в руке, а затем посмотрела на Иди. Я не хотела, чтобы она уходила, но это было необходимо. Она кивнула и выскользнула из комнаты, мягко закрыв за собою дверь. Я ощутила прилив любви к ней.
– Ну вот, – сказала я, – будто ее здесь никогда и не было.
Ложкой я помещала яблочное пюре маме в рот. У меня было чувство, будто я кормлю покойника. Когда ложка касалась ее губ, не было никакого противодействия, будто бы она не знала, что ее кормят, не считая слабого движения горла, когда она глотала. Я расплакалась. Я не плакала при ней еще с детства – возможно, было пару раз, но не вот так. Мои плечи содрогались. Я была в отчаянии. Сколько это будет продолжаться? Я запросто могу снова сделать ей больно, и в следующий раз все может обернуться еще хуже. Все это не для меня. У меня ничего не получалось. Мама открыла глаза.
– Пора, – сказала она, будто прочитав мои мысли.
Она подняла больную руку и вздрогнула. Я знала, что она ищет мою руку, поэтому сама взяла ее. Она держала ее с такой силой, какой у нее не было последние недели. Кажется, мы никогда не были так близки. Возможно, ради этой близости я и делала то, что делала.
– Дюжину, – сказала она и кивнула в сторону полусъеденного яблочного пюре в моих руках. – И я пойду спать.
Я не могла этого сделать. Тем утром я унесла таблетки и ступку с пестиком в ванную, пока мама просыпалась и возвращалась обратно в свой бесконечный полусон. Подальше от нее.
Иди обнаружила меня за кухонным столом, передо мной стояла полная тарелка овсянки. У меня не было аппетита. Я потеряла почти пять килограммов с тех пор, как заболела мама. Вещи, рассчитанные на мою более крупную версию, просто висели на мне. Пока овсянка застывала, я думала о том, наберу ли я потерянный вес после смерти мамы или же еще больше похудею. Может быть, я вообще исчезну. Мне было все равно. У меня не было знакомых девочек, у которых нет родителей. Были девочки с отчимами и мачехами, но в Хьюстоне это было редкостью. Почти у всех девочек была любящая мама, которую все мы знали и видели; мама, которая никуда не исчезнет.
Иди убрала овсянку и поставила передо мной чашку горячего кофе и булочку с корицей.
– Ешь, – приказала Иди, и я попыталась.
Она сидела рядом, со своей чашкой кофе. Она хотела сказать что-то о вчерашнем вечере, я это знала. Но я была слишком истощена, чтобы помочь ей это сказать.
– Господь заберет ее, когда придет время, – сказала она наконец и прикоснулась к маленькому золотому крестику, который лежал в ложбинке между ее ключицами, единственное украшение, которое я когда-либо видела на Иди. Ее голос менялся, когда речь заходила о Боге. Даже ее поведение менялось, становилось более строгим. Я не любила этого. Особенно в момент, когда мама лежит наверху, столь близко к смерти, что мне нужно было смачивать ей язык каждый час, иначе он высыхал, как губка.
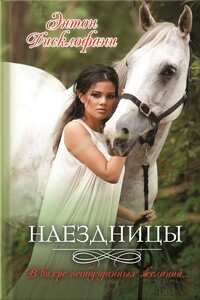
Теа было всего пятнадцать, когда родители отправили ее в закрытую престижную школу верховой езды для девушек, расположенную в горах Северной Каролины. Героиня оказывается в обществе, где правят деньги, красота и талант, где девушкам внушают: важно получить образование и жизненно необходимо выйти замуж до двадцати одного года. Эта же история – о девушке, которая пыталась воплотить свои мечты…

Исторический роман Акакия Белиашвили "Бесики" отражает одну из самых трагических эпох истории Грузии — вторую половину XVIII века. Грузинский народ, обессиленный кровопролитными войнами с персидскими и турецкими захватчиками, нашёл единственную возможность спасти национальное существование в дружбе с Россией.

Роман основан на реальной судьбе бойца Красной армии. Через раскаленные задонские степи фашистские танки рвутся к Сталинграду. На их пути практически нет регулярных частей Красной армии, только разрозненные подразделения без артиллерии и боеприпасов, без воды и продовольствия. Немцы сметают их почти походя, но все-таки каждый бой замедляет темп продвижения. Посреди этого кровавого водоворота красноармеец Павел Смолин, скромный советский парень, призванный в армию из тихой провинциальной Самары, пытается честно исполнить свой солдатский долг. Сможет ли Павел выжить в страшной мясорубке, где ежесекундно рвутся сотни тяжелых снарядов и мин, где беспрерывно атакуют танки и самолеты врага, где решается судьба Сталинграда и всей нашей Родины?

Отряд красноармейцев объезжает ближайшие от Знаменки села, вылавливая участников белогвардейского мятежа. Случайно попавшая в руки командира отряда Головина записка, указывает место, где скрывается Степан Золотарев, известный своей жестокостью главарь белых…
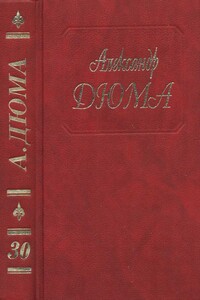
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
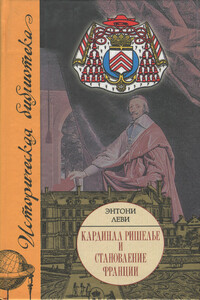
Подробная и вместе с тем увлекательная книга посвящена знаменитому кардиналу Ришелье, религиозному и политическому деятелю, фактическому главе Франции в период правления короля Людовика XIII. Наделенный железной волей и холодным острым умом, Ришелье сначала завоевал доверие королевы-матери Марии Медичи, затем в 1622 году стал кардиналом, а к 1624 году — первым министром короля Людовика XIII. Все свои усилия он направил на воспитание единой французской нации и на стяжание власти и богатства для себя самого. Энтони Леви — ведущий специалист в области французской литературы и культуры и редактор авторитетного двухтомного издания «Guide to French Literature», а также множества научных книг и статей.