Поскрёбыши - [64]
Вернулся без ноги. Елена Захаровна свидетельствует: дома его поначалу не приняли. Значит, так – говорит. Уж потом, когда я Василью шевиотовый костюм купила, тогда снова он поехал к жене в Балашов. Со второго захода дело сладилось. Рассказчица смыкает губы жесткой семейной складкой. Опустив веки, я вижу, как бредет Василий Захарыч на костылях и в гимнастерке через большой от солнца Балашов. Идет к вокзалу, оставив за спиной одичавшую бабу и малолетнюю дочь Валю. Елена Захаровна собирает глаза в кучку и продолжает еще строже. Значит, так. Дали ему от ворот поворот. Поехал он в Курск, добрался до Подворья. Так место наше называлось. От избы одна печная труба. Вышла из баньки восьмидесятилетняя Кичигина Марья. Из деревни притащилась. Тоже погорели. Мать, говорит, твоя в могиле, а сёстры в Москве. Дал ей сточенный ножик, услыхал спасибо и пошел прочь. Найду, думает, через адресный стол. Ой ли. Про Катьку в справочном бюро не сказали, она в Барыбине жила. Я в Москве, на Алексея Толстого. В дворницкой без окошка, под отцовской фамилией. Хорошо, Вася-муж нас с Вовкой тогда уж бросил. Так, значит, Вася-брат до меня легко добрался.
Ни фига себе хорошо. Ни фига себе легко – на липовой ноге через Балашов и Курск. Он Казань-город походом брал, мимоходом город Астрахань. Щедрая сестра, дарительница обновы, вынимает очки из книги, не то «Судьба Прасковьи», не то «Ошибка Маруси». Нацепляет на перебитый в недолгом замужестве нос, показывает мне снимок – погляди, Нинка. Брат Василий со всеми своими. Раз и навсегда присмиревшая при виде дорогой вещи супруга Клава. Валька с косичками. Двое младших, родившихся уже после войны – Толька и Славка. Тот самый всемогущий двубортный пиджак, вынимаемый по праздникам, просторно висит на прежде богатырских, а теперь довольно худых плечах отца семейства. Орден, две медали. И прямой взгляд – будто из двустволки прицелился.
Мы сидим уже не в дворницкой с вечно горящей лампочкой, а в двенадцатиметровой комнате. Настоящее чисто вымытое окно выходит во двор, где далекой кроной шумит вросший в небо тополь. Двухэтажный дом задирает ему вслед мансарду с наклонной крышей. На пышно убранной постели Елены Захаровны преизбыток подушек. Занавески фабричного нитяного кружева аккуратно зашиты во многих и многих местах. Накидки и подзоры вывязаны вручную из тех же катушечных ниток тем же крупным аляповатым рисунком. Скупой рассказ хозяйки окончен. Проявленный к нему интерес Елене Захаровне лестен, но не вполне понятен. Что дед мой с материнской стороны писал историю однодворчества в России – долго объяснять. Иное дело пристальный осмотр ее жилища, предпринятый в почтительном молчанье. Тут всё ясно. Я пришла снимать угол и, конечно, подавлена открывшимся мне великолепием. Хозяйка гасит в чуть поблёкших синих глазах ответ на безмолвные вопросы: как же это она без отца без матери нажила? еще и замуж вышла, хоть и ненадолго? а главное – как осилила шевиотовый костюм, предмет семейной гордости? Елена Захаровна улыбается быстрой, скупо отмеренной улыбкой. ''Я, Нинка, после Ташкента по чужим людям пожила, сперва под Москвой, уж потом в Москве. Меня, бывало, в Кунцеве старуха укорит, что я ее тряпку истёрла. Теперь во дворе уберусь, приду – здесь всё вымою. Сяду на табурет, руки сложу и думаю – господи, неужто это моё! Небось, сейчас хозяева вернутся, скажут – всё не так сделала. Поперек половиц, скажут, мыла''. Смеется коротким неумелым смешком. «Значит, так, девка. Будь по-твоему. Лезь на полати, доставай раскладушку». Мне два раза повторять не надо. На радостях я в мгновенье ока хватаю табуретку, становлюсь на нее босыми ногами. Пошарив, нахожу требуемое. У нас с покойной матерью в Курске комната была не больше этой. Обе спали на раскладушках. Маменька говаривала, что евангельские слова – встань, возьми одр свой и ходи – относятся к раскладушке. Теперь я привычной рукой разложила одр свой – и вселилась. Ура! удача, так же как и беда, одна не ходит. Я только что поступила на истфак МГУ, и жизнь представлялась мне в розовом свете.
Поступила внатяжку. С таким баллом взяли всех москвичей и немного иногородних, с условием – без общежития. Но мне, семнадцатилетней, еще продолжал помогать отец, живущий в Подольске со второй семьей, и я рискнула. Теперь Бог послал Елену Захаровну, ходячую иллюстрацию к рассказам деда, успевшего помереть чуть раньше матери. И вот я кладу свои полторы книжки на тщательно отлакированную этажерку. А в коридоре назревают события. Уже знакомый голос с родным соловьиным перекатом: а мне что? за места общего пользования я ответственная! студенты ходют? ходют! трое? трое! значит, так – будете убирать четыре недели. В ответ взволнованный оперный речитатив. Как я потом узнала, старой пианистки, преподавательницы из Гнесинки. Но мои ти куряне сведоми кмети. Елена Захаровна стоит намертво, как пращуры на естественном рубеже, на Оке – матушке. Не дослушав монолога, переходит знакомым бродом в стремительное наступленье. Еще напор – и враг бежит. Всё как по нотам. Хрупкая жертва пискнула полупридушенным горлышком и пошла мыть сортир, деликатно звякая ведром. Воительница возвращается. Значит, так… скажи, сирота, спасибо… наши-то две недели тебе дежурить… так они хоть не скоро придут… я бы уж из дворников ушла… меня в магазин уборщицей брали… правда, правда… только в дворниках мне легче соседей в кулаке держать. Показывает кулак. Ого-го! В таком кулаке не то что четырехкомнатную квартиру – Россию удержишь. Царский кулак. Стоит, раскраснелась, Настасья Микулична. Ростом Бог не обидел, чего нет, того нет.

В 2008 году вышла книга Натальи Арбузовой «Город с названьем Ковров-Самолетов». Автор заявил о себе как о создателе своеобычного стиля поэтической прозы, с широким гуманистическим охватом явлений сегодняшней жизни и русской истории. Наталье Арбузовой свойственны гротеск, насыщенность текста аллюзиями и доверие к интеллигентному читателю. Она в равной мере не боится высокого стиля и сленгового, резкого его снижения.

Автор заявил о себе как о создателе своеобычного стиля поэтической прозы, с широким гуманистическим охватом явлений сегодняшней жизни и русской истории. Наталье Арбузовой свойственны гротеск, насыщенность текста аллюзиями и доверие к интеллигентному читателю. Она в равной мере не боится высокого стиля и сленгового, резкого его снижения.

Новая книга, явствует из названья, не последняя. Наталья Арбузова оказалась автором упорным и была оценена самыми взыскательными, высокоинтеллигентными читателями. Данная книга содержит повести, рассказы и стихи. Уже зарекомендовав себя как поэт в прозе, она раскрывается перед нами как поэт-новатор, замешивающий присутствующие в преизбытке рифмы в строку точно изюм в тесто, получая таким образом дополнительную степень свободы.

Я предпринимаю трудную попытку переписать свою жизнь в другом варианте, практически при тех же стартовых условиях, но как если бы я приняла какие-то некогда мною отвергнутые предложения. История не терпит сослагательного наклонения. А я в историю не войду (не влипну). Моя жизнь, моя вольная воля. Что хочу, то и перечеркну. Не стану грести себе больше счастья, больше удачи. Даже многим поступлюсь. Но, незаметно для читателя, самую большую беду руками разведу.
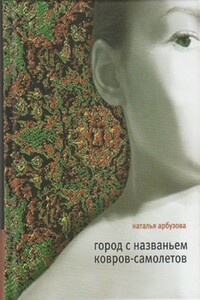
Герои Натальи Арбузовой врываются в повествование стремительно и неожиданно, и также стремительно, необратимо, непоправимо уходят: адский вихрь потерь и обретений, метаморфозы души – именно отсюда необычайно трепетное отношение писательницы к ритму как стиха, так и прозы.Она замешивает рифмы в текст, будто изюм в тесто, сбивается на стихотворную строку внутри прозаической, не боится рушить «устоявшиеся» литературные каноны, – именно вследствие их «нарушения» и рождается живое слово, необходимое чуткому и тонкому читателю.

О чем этот роман? Казалось бы, это двенадцать не связанных друг с другом рассказов. Или что-то их все же объединяет? Что нас всех объединяет? Нас, русских. Водка? Кровь? Любовь! Вот, что нас всех объединяет. Несмотря на все ужасы, которые происходили в прошлом и, несомненно, произойдут в будущем. И сквозь века и сквозь столетия, одна женщина, певица поет нам эту песню. Я чувствую любовь! Поет она. И значит, любовь есть. Ты чувствуешь любовь, читатель?

События, описанные в повестях «Новомир» и «Звезда моя, вечерница», происходят в сёлах Южного Урала (Оренбуржья) в конце перестройки и начале пресловутых «реформ». Главный персонаж повести «Новомир» — пенсионер, всю жизнь проработавший механизатором, доживающий свой век в полузаброшенной нынешней деревне, но сумевший, несмотря ни на что, сохранить в себе то человеческое, что напрочь утрачено так называемыми новыми русскими. Героиня повести «Звезда моя, вечерница» встречает наконец того единственного, кого не теряла надежды найти, — свою любовь, опору, соратника по жизни, и это во времена очередной русской смуты, обрушения всего, чем жили и на что так надеялись… Новая книга известного российского прозаика, лауреата премий имени И.А. Бунина, Александра Невского, Д.Н. Мамина-Сибиряка и многих других.

Две женщины — наша современница студентка и советская поэтесса, их судьбы пересекаются, скрещиваться и в них, как в зеркале отражается эпоха…

Жизнь в театре и после него — в заметках, притчах и стихах. С юмором и без оного, с лирикой и почти физикой, но без всякого сожаления!

От автора… В русской литературе уже были «Записки юного врача» и «Записки врача». Это – «Записки поюзанного врача», сумевшего пережить стадии карьеры «Ничего не знаю, ничего не умею» и «Все знаю, все умею» и дожившего-таки до стадии «Что-то знаю, что-то умею и что?»…

У Славика из пригородного лесхоза появляется щенок-найдёныш. Подросток всей душой отдаётся воспитанию Жульки, не подозревая, что в её жилах течёт кровь древнейших боевых псов. Беда, в которую попадает Славик, показывает, что Жулька унаследовала лучшие гены предков: рискуя жизнью, собака беззаветно бросается на защиту друга. Но будет ли Славик с прежней любовью относиться к своей спасительнице, видя, что после страшного боя Жулька стала инвалидом?

Один из главных «героев» романа — время. Оно властно меняет человеческие судьбы и названия улиц, перелистывая поколения, словно страницы книги. Время своенравно распоряжается судьбой главной героини, Ирины. Родила двоих детей, но вырастила и воспитала троих. Кристально честный человек, она едва не попадает в тюрьму… Когда после войны Ирина возвращается в родной город, он предстает таким же израненным, как ее собственная жизнь. Дети взрослеют и уже не помнят того, что знает и помнит она. Или не хотят помнить? — Но это означает, что внуки никогда не узнают о прошлом: оно ускользает, не оставляя следа в реальности, однако продолжает жить в памяти, снах и разговорах с теми, которых больше нет.

Роман «Жили-были старик со старухой», по точному слову Майи Кучерской, — повествование о судьбе семьи староверов, заброшенных в начале прошлого века в Остзейский край, там осевших, переживших у синего моря войны, разорение, потери и все-таки выживших, спасенных собственной верностью самым простым, но главным ценностям. «…Эта история захватывает с первой страницы и не отпускает до конца романа. Живые, порой комичные, порой трагические типажи, „вкусный“ говор, забавные и точные „семейные словечки“, трогательная любовь и великое русское терпение — все это сразу берет за душу.

Роман «Время обнимать» – увлекательная семейная сага, в которой есть все, что так нравится читателю: сложные судьбы, страсти, разлуки, измены, трагическая слепота родных людей и их внезапные прозрения… Но не только! Это еще и философская драма о том, какова цена жизни и смерти, как настигает и убивает прошлое, недаром в названии – слова из Книги Екклесиаста. Это повествование – гимн семье: объятиям, сантиментам, милым пустякам жизни и преданной взаимной любви, ее единственной нерушимой основе. С мягкой иронией автор рассказывает о нескольких поколениях питерской интеллигенции, их трогательной заботе о «своем круге» и непременном культурном образовании детей, любви к литературе и музыке и неприятии хамства.

Великое счастье безвестности – такое, как у Владимира Гуркина, – выпадает редкому творцу: это когда твое собственное имя прикрыто, словно обложкой, названием твоего главного произведения. «Любовь и голуби» знают все, они давно живут отдельно от своего автора – как народная песня. А ведь у Гуркина есть еще и «Плач в пригоршню»: «шедевр русской драматургии – никаких сомнений. Куда хочешь ставь – между Островским и Грибоедовым или Сухово-Кобылиным» (Владимир Меньшов). И вообще Гуркин – «подлинное драматургическое изумление, я давно ждала такого национального, народного театра, безжалостного к истории и милосердного к героям» (Людмила Петрушевская)