Поручик Поспелов - [5]
— Помилуйте, Поспелов, да разве можно не сочувствовать вашим идеям?
— Значит можно, когда батарейный командир мне прямо заявлял, что школа вещь не суть важная; бросьте, мол, займитесь лучше обливкой снарядов, а школу предоставьте господам прапорщикам! А товарищи, вы думаете, не подсмеивались надо мной?.. Чудаком прозвали, чего, дескать, возится со своей школой, точно с писаной торбой!.. Да, да — было всего… А вы? — добавил он, поднимая на меня свои светлые глаза, как будто бы совестясь своей вчерашней откровенности. — Вы ведь не смеетесь надо мной, не правда ли?
Я поспешил ответить горячим рукопожатием.
В комнату ввалилась хромая, грязная девчонка с кипящим самоваром. Поспелов начал хлопотать около самовара. «Жаль, жаль, о многом бы хотелось столковаться!» — изредка повторял он, прерывая наступившее молчание. Разговор как-то не вязался. Каждый чувствовал, что ввиду скорой и, может быть, вечной разлуки беседа наша утратила свой прежний сближающий смысл.
Я решился напомнить Поспелову его обещание, показать мне письмо, присланное ему его бывшими «школьниками». Поспелов покраснел. «Ах, да, то письмо, — забормотал он смущенно, — да стоит ли показывать… Впрочем, вот — прочтите, если хотите». Порывшись в ящике, он достал тщательно завернутый в бумагу небольшой серый конверт. Я принялся с жадностью поглощать интересные строки, а Поспелов, откинувшись на спину стула, погрузился в грустную, сосредоточенную задумчивость…
Письмо начиналось обычными многочисленными пожеланиями русского человека; затем сообщались некоторые новости дня: что их батарея переведена из города «в очень скучливое место», что Трофим Шепидька произведен в фейерверкеры и что у них теперь новый взводный; «очень жалеем об вас, ваше благородие, — некому нам дать почитать газету, а уж не поминая об иллюстрации, которую вы были столь добродушны предоставлять нам: наш новый поручик не выписует никаких ведомостей, и мы в настоящее время ничего не знаем». Далее следовал ряд детски наивных вопросов вроде: «Очень ли свирепы турки?», «Правда ли, что англичан идет на нас?», «Не слышно ли миру, ваше благородие?» и т. п. Заканчивалось письмо особенно трогательно: «Все школьники, ваше благородие, сочувствуют вам свою искреннюю привязанность, каждодневно просят бога о вашем здравии и благодарят душевно за ваше человеколюбие, за вашу прошлую дорогую к нам улыбку, за все, чему вы нас от чистого сердца обучали, за что желаем вам всего лучшего в жизни и повышение вашего чина. Прощайте, ваше благородие!»
Следовали подписи солдат взвода, которым командовал Поспелов.
Я молча передал письмо Поспелову. Он тотчас заметил глубокое впечатление, произведенное на меня чтением письма.
— Вы теперь меня понимаете? — обрадовался он.
Я протянул ему руку.
— И не забудете нашего разговора?
— Никогда.
— Верю… Спасибо вам!
Мц помолчали. Поспелов опять нахмурился и задумчиво смотрел в окно, а я медленно и нехотя прихлебывал остывший чай.
— Как вы думаете, — нерешительно вдруг заговорил Поспелов, — скоро мне удастся выбраться из Т.?
У меня не хватило духу его разочаровывать.
— Дай-то бог! А то, чего доброго, одуреешь, сидя на одном месте в пошлом бездействии. И потом эти вечные бестолковые жертвы, это преждевременное ликование и повальное воровство сведут хоть кого с ума… Вы слыхали историю с П.?
— Знаю. Возмутительно!
— Нет, вы только подумайте, голубчик: молодежь начала воровать. Ведь это что ж такое?!
Начался обычный в то время разговор о различных случаях взяточничества, которые в ***-ой армии приняли гомерические размеры.
Наконец мы встали: мне было пора ехать. Поспелов захотел непременно меня проводить. Мы дошли молча до гостиницы. Офицерские сборы невелики: маленький чемодан, бурка, азиатская шашка, если у кого таковая имеется, — вот и все. Перед отъездом распили неизменную в таких случаях бутылку «донского». Решено было, что ввиду различных затруднений переписываться мы не будем, но Поспелов оставит свой адрес Анне Ивановне, а я по окончании войны заеду в Т. Вошел слуга и доложил, что лошади готовы. Я хотел было проститься, но Поспелов настоял, чтоб и проводить меня за город, и сел со мною в почтовую тележку. Когда город остался далеко за нами, Поспелов уныло оглянулся и, обняв меня три раза крепко-накрепко, глубоко вздохнул. «Дай бог тебе всего хорошего», — тихо и отрывисто произнес он; в его голосе дрожала слеза. Он вылез из тележки и взглянул на меня в последний раз своими влажными глазами.
— Прощай, голубчик!
— Прощай, Поспелов!
Ямщик взмахнул плеткой, тряхнул вожжами, и тележка запрыгала по кочкам и ухабам… Я обернулся — вдали, на завороте дороги, кто-то усиленно махал платком. Я снял фуражку и поднял ее высоко над головой…
Война окончилась. Я должен был ехать обратно в Б. к своей бригаде. Остановившись в Т., я первым делом бросился в знакомый переулок, к Анне Ивановне. Анна Ивановна сидела на своем обычном месте и по-прежнему что-то жевала; она меня встретила несколько удивленно и на мой вопрос о Поспелове отрицательно закачала головой: «Нэт Поспелов, умерла Поспелов!..» Как умер? Когда? Где? Отчего? Я был как громом поражен.
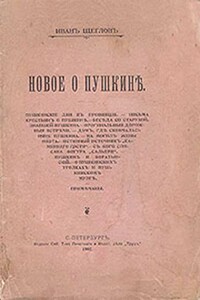
(настоящая фамилия — Леонтьев) — прозаик, драматург. По образованию — офицер-артиллерист. В 1883 г. вышел в отставку и занялся исключительно литературным трудом. Внучатый племянник скульптора Петра Клодта (автора Аничкова моста в Петербурге, памятников святому Владимиру в Киеве и Крылову в Летнем саду)Издание представляет собой дорожные впечатления и кабинетные заметки Ивана Щеглова об Александре Сергеевиче Пушкине, сосредоточенные, по преимуществу, на мотивах и подробностях, мало или совсем не затронутых пушкинианцами.
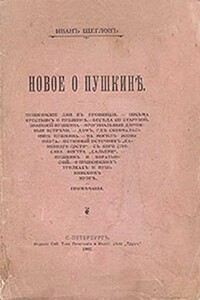
(настоящая фамилия — Леонтьев) — прозаик, драматург. По образованию — офицер-артиллерист. В 1883 г. вышел в отставку и занялся исключительно литературным трудом. Внучатый племянник скульптора Петра Клодта (автора Аничкова моста в Петербурге, памятников святому Владимиру в Киеве и Крылову в Летнем саду)Издание представляет собой дорожные впечатления и кабинетные заметки Ивана Щеглова об Александре Сергеевиче Пушкине, сосредоточенные, по преимуществу, на мотивах и подробностях, мало или совсем не затронутых пушкинианцами.

(настоящая фамилия — Леонтьев) — прозаик, драматург. По образованию — офицер-артиллерист. В 1883 г. вышел в отставку и занялся исключительно литературным трудом. Внучатый племянник скульптора Петра Клодта (автора Аничкова моста в Петербурге, памятников святому Владимиру в Киеве и Крылову в Летнем саду)

(настоящая фамилия — Леонтьев) — прозаик, драматург. По образованию — офицер-артиллерист. В 1883 г. вышел в отставку и занялся исключительно литературным трудом. Внучатый племянник скульптора Петра Клодта (автора Аничкова моста в Петербурге, памятников святому Владимиру в Киеве и Крылову в Летнем саду)
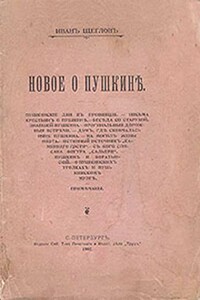
(настоящая фамилия — Леонтьев) — прозаик, драматург. По образованию — офицер-артиллерист. В 1883 г. вышел в отставку и занялся исключительно литературным трудом. Внучатый племянник скульптора Петра Клодта (автора Аничкова моста в Петербурге, памятников святому Владимиру в Киеве и Крылову в Летнем саду)Издание представляет собой дорожные впечатления и кабинетные заметки Ивана Щеглова об Александре Сергеевиче Пушкине, сосредоточенные, по преимуществу, на мотивах и подробностях, мало или совсем не затронутых пушкинианцами.
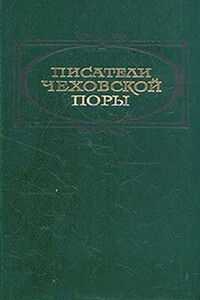
(настоящая фамилия — Леонтьев) — прозаик, драматург. По образованию — офицер-артиллерист. В 1883 г. вышел в отставку и занялся исключительно литературным трудом. Внучатый племянник скульптора Петра Клодта (автора Аничкова моста в Петербурге, памятников святому Владимиру в Киеве и Крылову в Летнем саду)
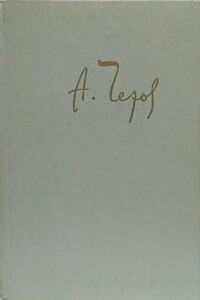
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В первый том творческого наследия И. А. Аксенова вошли письма, изобразительное искусство, театр и кино; второй том включает историю литературы, теорию, критику, поэзию, прозу, переводы, воспоминания современников.https://ruslit.traumlibrary.net.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В сборник произведений писателя-символиста Георгия Чулкова (1879–1939) вошли новеллы «Сестра», «Морская Царевна», «Подсолнухи», «Омут», «Судьба» и «Голос из могилы».