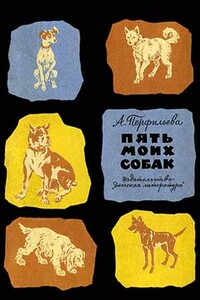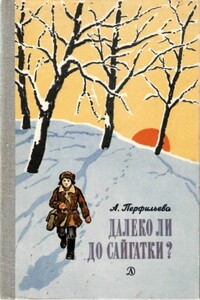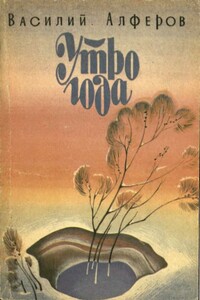— Угу.
— Жарко, мочи нет!
— Жарковато.
— Галина-то где?
— На червях.
— Юлька, вечером, как управишься, за наш плетень шлангу протянешь? Я хоть бы десяток вёдер на помидорки слила.
— Мне Пётр велел… под каждый персик двести вёдер дать! Двести вёдер по пятнадцать секунд получается триста, то есть три тысячи, делим на шестьдесят… — Результат Юлька проглатывает. — Всю ночь буду лить.
— А спать когда?
— Успею и поспать. Помпа работает бесперебойно.
— Энергию, может, жалеешь, говори уж прямо!
— Как — энергию? Нам самим вода нужна! Пётр говорил, на меня вся надежда, а вода — золото. И никому не велел…
— Помпа ты и есть…
Последние слова сказаны за плетнём довольно громко, и рассерженная Юлька посылает вдогонку соседской девочке, которая несёт с кринички коромысло с двумя вёдрами, а третье в руке:
— Мне ещё крыжовник Петруша велел поливать — слышишь?
— Крыжовник без воды проживёт. Не мог тебе такого Пётр велеть! — доносится в ответ.
— Юля, Юлька, ой как складно помпа поёт! Юля, вот если бы на ваши шланги наши нацепить, ох, и мой огород полили бы! Юлечка, а?
Это кричит дочка почтарши, Верка, прибегавшая с известием о полученной на Юлькино имя бандероли. Верке, помощнице и сообщнице в некоторой степени, Юлька отвечает благосклонно:
— Хорошо. Вечером переговорю с Петром. Может быть, и разрешит. Ты зайди завтра… часов в двенадцать.
— Ой, Юлька! Кто же в полдён огороды поливает? Землю хуже солнцем стянет.
— Я поливаю, у меня же не стягивает.
— Так ты много воды льёшь, вволю!
— В общем, если не хочешь, не приходи. Дело твоё.
Верка молчит, молчит, вдруг выпаливает:
— У, жадоба! А ещё москвичка! — и со всех ног припускает к криничке.
— Мне не понятен деревенский диалект, — высокомерно изрекает Юлька, хотя всё отлично поняла, а слово «диалект», слышанное где-то, ввернула от обиды.
Старушка идёт в гору от кринички. Тащит не ведро — бидон. В другой руке бутыль на верёвочке. Останавливается у плетня, долго глядит на скважину, слушает гудение помпы, изучает Юльку. Наконец шамкает:
— Час добрый! Хороша водица из-под земли? Чище энтой… с хранилища. Фильтры в ём, хлоры, а с землёй-матушкой не сравняться! Много ль твой мотор качать начал?
— Одно ведро за пятнадцать секунд. — Юлька, бесстыдница, и вполоборота не повернулась к старушке.
— Ваш огород теперь оживеет. Заиграет! Дождика бы…
Ушла старая, не попрощалась. Впрочем, она и не здоровалась? Юльке же невдомёк самой сказать, как это принято: «Здравствуйте или до свиданья, бабушка Авдотья!..» — а ведь отлично знает, что её все так величают…
— Юлька, иди шланг перетягивать! Хлеб в магазин привезли, баб Катя меня посылаает!.. — орёт с усадьбы Шурец.
Приложив палец ко лбу (мимо плетня от кринички идут другие соседки с вёдрами), Юлька делает вид, что соображает и решает очень важное. Время и помпе отдыхать, можно сделать перерыв. Щёлк — помпа выключена! Громче стали голоса у кринички. Юлька, не торопясь, поднимается по усадьбе Лукьяненок. Помпу оставила спокойно. Вчера и на ночь её не уносили, не отсоединяли. Только прикрыли колодец скважины старым шифером. Пётр сухо сказал Юльке, когда та заволновалась, не пропадёт ли помпа ночью:
— В Изюмовке воров нет, — и не совсем понятную фразу: — Проверим, и ночами для пользы поработает.
Юлька бегло смотрит на часы. Скоро шесть. К закату все вернутся с работы. Под ложечкой засосало: вспомнилась самовольно предложенная художнице-москвичке комната. Да, может, и не приедет вовсе, не приняла Юлькины слова-то всерьёз? Как бы Галка не проболталась… А вообще, в чём дело, прямая же выгода! И всё-таки…
Наступил вечер. Памятный для Юльки вечер.
Пришли дядя Федя с тётей Дусей. Друг за другом. Даже не переодевшись, осмотрели огород. Остались довольны: земля была полита обильно, досыта. Тётя Дуся только охала, что Пётр сумел-таки восстановить скважину. Ведь не верила, сомневалась!.. Картошка, конечно, ненапоенная, вся пожухла от жары.
Юлька прикинулась изнемогшей от усталости. Шурец верещал, жалуясь, что она загоняла его, «как рабу», а сама весь день сидела барыней у помпы. Но дядя Федя с тётей Дусей на него прикрикнули, а Юльку похвалили. От похвалы ей почему-то стало муторно.
Галюшка прибежала поздно: заодно дождалась и пригнала корову. Баба Катя заторопилась её доить.
Наконец протарахтел мотоцикл, вернулся и Пётр. С Юлькой он был неразговорчивый, колючий какой-то. Ничего не ответил, когда она с гордостью сообщила, что помпа поработала отлично. Умылся за сараем, облился из бочки нагревшейся за день водой. Переоделся во всё чистое.
Семья села ужинать под малым орехом.
Стемнело совсем. Свет падал из окна летней кухни, неверно освещая крупные ореховые листья, вырывая из темноты то кусок могучего ствола, то чьё-нибудь лицо. Баба Катя бесшумно таскала чугуны и плошки. Юлька великодушно предложила помочь.
— Сиди уж, сама управлюсь, — ответила сухо старушка.
Молчаливыми были сегодня вечером все Лукьяненки. Устали, видно, измотались за долгий жаркий рабочий день!
Пётр, нарядный, в белой рубашке, с блестящими, невысохшими волосами, ел сосредоточенно, молча. И вдруг сильно ударил по столу рукой.
— Петруша!.. — удивилась тётя Дуся.